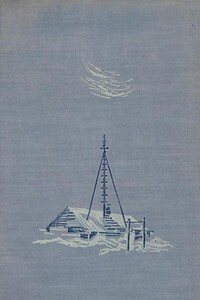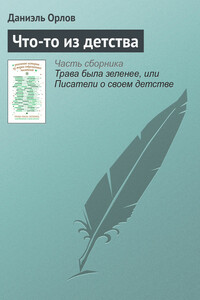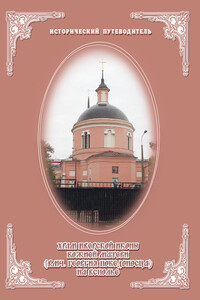На старой карте 1911 года была показана цепь вытянутых с севера на юг озер, располагавшихся между двумя горными хребтами: Пясино, Быстровское, Давыдово, Матушкино, Хантайское. Озеро Пясино, по расспросам, существует, и из него вытекает река Пясина, а вот о Быстровском, Давыдово, Матушкино никто не слышал. Утверждают, что таких озер около Норильска нет, а вместо них называли Мелкое, Лама, Омук или Глубокое, Кета, Гутке, Капчук и другие, но все они расположены по-иному, вытянуты с запада на восток и лежат глубоко в горах. Хантайское озеро действительно существует. Из него вытекает река Хантайка и впадает в Енисей южнее Дудинки. Все это следовало проверить. Наши исследования Норильского района начались еще летом 1920 года с посещения гор на противоположной стороне норильской долины. Горы эти местное население зовут Караелах, что по-русски означает "еловый камень". В то лето было решено кроме оленей попробовать использовать лошадей для доставки грузов вьюками из Дудинки в Норильск. Рассчитывали, что весной тундра еще не успеет оттаять. И действительно, каждая лошадь тогда несла груз, заменяя четырех оленей. Однако осенью по талой тундре даже без вьюков лошади вернулись назад с большим трудом.
В маршрут мы отправились вдвоем с рабочим, дудинским жителем Тимофеем Даурским, который ранее не раз промышлял в районе Норильска. Взяли палатку, спальные мешки, инструменты, продовольствие на десять дней и все это навьючили на двух лошадей.
Путь сначала шел к устью реки Рыбной, где стоит старинная часовня. Там раньше приезжавший раз в год миссионер-священник разом выполнял все требы: крестил давно родившихся, венчал поженившихся и отпевал похороненных. Теперь часовня пустует, но все равно это место так и именуется — Часовня. Здесь дудинский житель К.В.Пуссе поставил дом и рыбачит. С ним договорились, что он даст нам лодку, чтобы переправиться на другую сторону реки, потом заберет ее обратно, а через десять дней пригонит и поставит в том же месте. Переправа прошла благополучно, хотя течение здесь быстрое, а в ширину река имеет не менее полукилометра. Лошадей переправили обеих сразу. Зато путь до гор был нелегок. Вся долина представляла собой скопления беспорядочно разбросанных холмов с впадинами между ними, заполненными водой. Все густо заросло кустарником ольхи и березы. Приходилось прорубать путь. Лошади падали, то и дело вязли, а мы их развьючивали, вытаскивали, стоя по пояс в торфяной жиже. Перемазались — не узнать, зато комары не так липли, а было их — тучи, сплошное облако над людьми и лошадьми. Двое суток добирались до гор, хотя до них не более 15 километров. Зато у подножия оказалось чисто и сухо. Щебень, галька. Кругом густой лес: рослые лиственницы, березы, ели. Густая высокая трава почти до пояса. Природа гораздо богаче, чем в районе Норильска. Склоны здесь имеют южную экспозицию, больше освещены и лучше прогреваются солнцем.
Медленно идем на запад вдоль горных склонов. Внимательно осматриваю долины, по которым с гор бегут ручьи и речки. Всюду выходят такие же песчаники и сланцы, как и в Норильске. Везде встречаются пласты каменного угля, местами довольно мощные. Взяли образцы, отобрали пробы. Стало быть, здесь не одно Норильское угольное месторождение, а целый угленосный район.
По одному из ущельев, прорезающих склоны гор, поднялся наверх. Борта его сложены почти горизонтально лежащими покровами базальтовых лав, чередующихся с горизонтами туфов, окаменелого пепла, выброшенного вулканом. Покровы лав образуют в ущелье вертикальные уступы, по которым вода низвергается эффектными водопадами. Проходить такие участки нелегко. Приходится карабкаться, пользуясь выступами и трещинами, по стенкам лавового покрова с риском сорваться в глубокую водяную чащу, выбитую у подножия каскада вековой деятельностью водопада. Преодолев эти уступы, весь мокрый, вскарабкался, наконец, наверх и был очарован чудесным видом, открывшимся передо мной. Поверхность плато у моих ног; на юг оно обрывалось почти вертикальным уступом, а на север уходило вдаль за горизонт. Если отвернуться от обрыва, то никак не скажешь, что стоишь на километровой высоте.