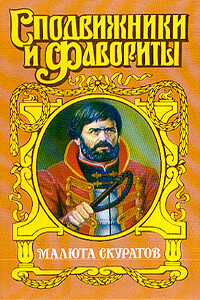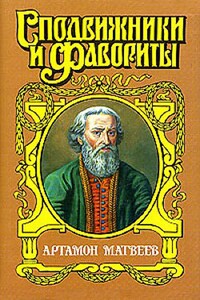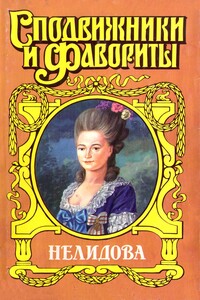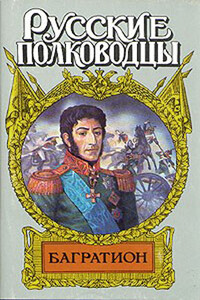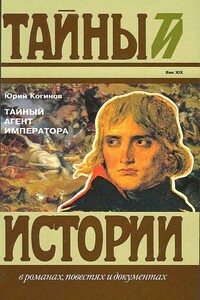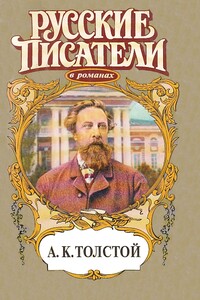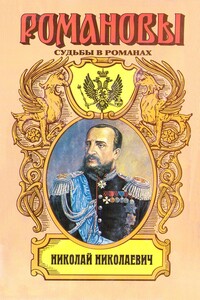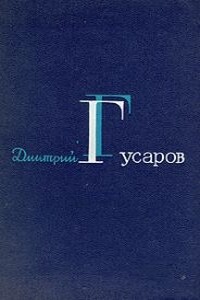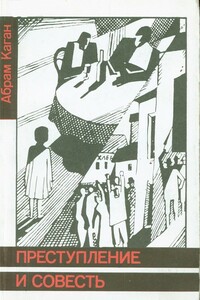— Всё, что особенно пока мне неведомо, представляется мне предметом увлекательным, — признался камер-паж. — Ежели у меня было бы много свободного времени, часами бы просиживал у вас в кабинете или в вашей лаборатории, до тех пор пока бы вы меня не прогнали.
С самого переезда младшего Шувалова из Москвы в Санкт-Петербург судьба счастливо свела его с Ломоносовым, поэтические труды которого он уже хорошо знал. Но оказалось, сей пиит ещё и огромный знаток многих естественных наук, начиная с химии и физики и кончая астрономией. Брат, Пётр Иванович, который пригласил однажды к себе этого учёного-энциклопедиста, сказал:
— А мы с вами, любезный Михаил Васильевич, земляки — оба выросли в архангельских краях.
— Помню, помню, ваше превосходительство, как говорили о вашем батюшке, губернаторе архангельском, наши поморы: Пётр Великий знал, кого над нами поставить, — по своему образу и подобию выбрал, строг губернатор, да справедлив.
Тогда, при первой же встрече, юный Шувалов, уже зная оду Ломоносова на приезд в Санкт-Петербург внука Петра Великого, голштинского герцога, спросил пиита, намерен ли он сочинить такую же торжественную оду на возвращение императрицы, после её коронации, из Москвы в Петербург. Ломоносов ответил:
— Пиит Тредиаковский уже разразился стихами на день восшествия её величества на престол, но выпустил сии неумелые свои стихи иод моим именем. После чего мне совестно уже что-либо подлинно своё сочинить.
— Значит, вы не любите императрицу? — с юношеской непосредственностью сказал пятнадцатилетний отрок.
— Вы так полагаете? — не сдержался Ломоносов. — Так я вам докажу, что ваше предположение неверно. Многажды, поверьте, сумею доказать вам и всему люду, насколько безгранично моё восхищение дщерью Петра Великого.
Оказалось, что интерес к стихотворству Иван Шувалов проявил не случайно. Через несколько дней он упросил старшего брата ещё раз пригласить учёного-пиита, чтобы извиниться перед ним за свою запальчивость и показать ему для апробации свои собственные стихи.
Вирши оказались под стать творениям Тредиаковского, как сразу определил Ломоносов.
О Боже мой Господь, Создатель всего света,
Сей день твоею волей я стал быть человек:
Если жизнь моя полезна, продолжай ты мои лета;
Если ж та идёт превратно, сократи скорей мой век!
Нет, сие было лучше, чем многое у Василия Кирилловича, уже признанного поэтического мужа. Однако ж стих должен быть более простым, не столь громоздким, а скорее напевным, чем эти строки, кои юноша посвятил собственному дню рождения.
Когда-то сам Ломоносов, ещё пребывая в Германии и решив сочинить хвалебную оду на взятие Хотина, пришёл к убеждению, что более нельзя следовать в поэзии так называемому силлабическому канону. Этот способ, как известно, полагает в стихе определённое количество слогов, что делает стихи зарифмованной тяжеловесной прозою. А надо, чтобы стих был распевным, что наличествует, к примеру, в народном русском стихосложении. Для сего стих должен иметь меру стоп, приятную слуху, отчего он поётся и тем от спотыкливой прозы разнится.
К подобному выводу приходил и сам Тредиаковский, который, будучи во Франции, освоил тамошнее, более многообразное по своей форме стихосложение. Но метрическую систему он распространил на героический стих — тринадцатисложный российский эксаметр и одиннадцатисложный — российский пентаметр. Ломоносов же первым в русском стихосложении решил приспособить новый способ на все размеры, а не только на эксаметр и пентаметр. Он стал писать хореем и ямбом, причём предпочитал последний размер первому. Так, ямбом, была написана его первая ода на взятие Хотина, так он стал писать и последующие. Такого звонкого и распевного стиха ещё не знала русская поэзия.
— Вижу, что вам хотелось бы взять у меня несколько уроков, — сказал тогда Ломоносов начинающему стихотворцу. — Я с удовольствием поделюсь с вами тем, чего сам достиг.
Так начались первые уроки, которые переросли незаметно в большую дружбу. Юный камер-паж императорского двора стал приезжать в дом, что на Васильевском острове, на Второй его линии, где квартировал профессор химии, в удобное для них обоих время.