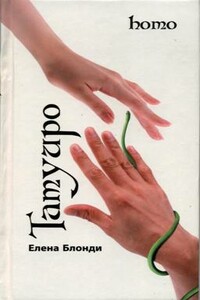— И что ж, когда ездили, ни разу не захотелось снять — море, небо с облаками? Песок у воды?
— Нет, ну, может, пару раз, — Витька криво улыбнулся. Пожал плечами, — я не задумывался об этом, даже сейчас. Вот пока вы не спросили. Дурак, да?
— Не думаю. Просто пути у всех разные, Витя. У тебя, значит, такой, не прямой путь.
Они помолчали. Вокруг сверкало, звенело, пищало и чирикало. За спиной рыкали, разворачиваясь, автомобили, и Витька оглядывался, думая увидеть ту самую, которую приехали снимать.
— Не крутись, — Альехо глянул на часы, — ещё полчаса у нас.
— А…
— Я тебя раньше вытащил, посидеть, посмотреть.
— А-а…
— Когда же стал ты именно снимать? Не девочек…
— В Киеве в студию ходил. Недолго. Стали нам теорию рассказывать, и скучно стало. Я же из посёлка переехал, мне было интересно — по городу.
— С камерой ходил?
— Да. Но опять всё то же. Одноклассники. На спине у льва или в чугунных воротах рожи корчили. Ну или на дерево кто залезет.
— Зато тебя девочки любили, да?
— Угу. Фотик мой любили. Приглашали всегда на дни рождения, на всякие гулянки.
Витька хмыкнул.
— Им нравилось моделек изображать. Всё из шкафа повытянут, сто раз переоденутся, ах, Витенька, вот так меня сними и вот так. Получается, как мы сейчас в студии.
И замолчал, испугавшись: вдруг Альехо обидится на сравнение. Но тот улыбнулся. Усаживаясь поудобнее, поправил забранный резинкой хвост. И тогда Витька сказал хмуро, делясь обидой:
— А один раз меня позвали, это уже перед выпускным было. Собрались на Днепр, на маёвку. Подошёл сзади, к девчонкам, а они обо мне. Настя, была такая, через губу не плюнет, спросила эдак, мол, и этот на фига-то придёт? А ей ответили, ну он же с фотиком, всех пощёлкает. Я ушёл. «Зенит» отцовский на полку закинул, долго потом не доставал.
— Как ты сказал? Через губу не плюнет? — Альехо расхохотался, снимая очки. — Ну не обижайся, я так, хорошо рассказываешь.
— Ладно. То ж дело прошлое.
— А потом?
— Потом с мамой в Москву переехали. Втроём жили. С тёткой Аней. Мать всё ездила в Киев, у неё там мужчина остался. Стоматолог. Женатый. Я его… не любил, в общем.
— А она любила.
— Да. А я поступил и проучился три года, чтоб в армию не идти. В академию Горячкина. Сельхонавоз мы её называли. И тут стоматолог развёлся. Опаньки, приехал, устроили совет, и маму я отправил жизнь налаживать. Сам остался с тёть Аней. И бросил академию.
— А мать и не знала, да?
— Никто не знал. Год провалял дурака, потом скандал, потом на работу устроился. На почте посылки сортировал. А потом познакомился со Стёпкой. И он меня устроил к себе, в фотолабораторию при институте. Там и прижился. А тётка уехала к дочери, в Саратов.
Он замолчал. Раскрошил остатки булки и кинул веером. Серые плитки покрылись скачущими воробьями. Сказал медленно об очевидном, которое и не думалось, и не проговаривалось до этого:
— Илья Афанасьич, получается, что рыжий Степан меня повернул. Он такой, ничего не боялся, хотя мало что умел. Всё время то за город тащил, на какие-то гонки мотоциклетные, то на ипподром, под кабаками мы с ним стояли, помню. И всё там, где людей побольше. Тогда я и понял, что можно снимать не только знакомых да на работе карточки для атласов научных.
— И стал снимать?
Витьке стало неловко. Загорелись уши, и он подумал: это просто солнце греет. Потёр горячее ухо ладонью.
— Нет, не стал. Не нравилось. Так и клепал на работе фото для справочников и диссеров. Ходил за Степаном, потому что — весело с ним. И фотик таскал свой, потому что вроде как пропуск везде.
— А что не нравилось, Витя?
— Да всё! Толпы, лица, моторы ревут, Стёпка лезет ко всем разговаривать.
— Погоди.
Альехо встал со скамейки и ушёл за куст сирени, утыканный крупными почками. Копошась, задевая ветки, щёлкнул что-то над Витькиной головой. Витька обернулся. Увидел угол чёрной крыши с языком снега, и с него — пунктир капель, ниткой в центр лужи.
— Посмотрим, потом, — Альехо снова уселся, закрывая объектив крышкой.
— Вот так, как вы сейчас, я никогда не мог. Даже как-то в голову не приходило. Нет, вру. Приходило, да я думал, а кому оно нужно?
— А сейчас?