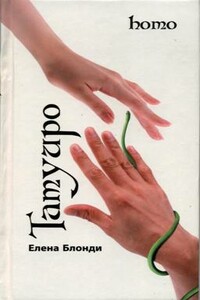— Позови серых бабочек, колдун. Я буду говорить с ними. Выкликну тех, у кого просил мены. Попрошу их отдать мои слова обратно.
Тику смеялся. Хохотал, хлопая Меру по плечу, падал на спину и дёргал ногами. Но всё это — в голове. Снаружи он покивал и стал плести сказку о том, что бабочки сами выбирают время, когда прилететь, и что он, мудрец Тику, принимает поросёнка в дар и, как только взмахнут над хижиной серые крылья, призовёт Меру и устроит так, что бабочки услышат. И услышат те, кто взял обещание охотника. А пока дал Меру отвара листьев кровянника, велел смачивать рану и научил заклинанию, чтоб кость быстрее срослась.
Он поднял голову. Через шум дождя и близкий, уже неумолкающий скрип, слышались тяжёлые шаги. Шаги уверенного большого человека. Тику встал, усмехнулся, перекашивая занывшую щёку. Конечно, что ему, большому вождю, ведь не ему слушать бабочек. Ему слушать то, что они прошепчут для Тику. И за это вождь велит женщинам кормить старика и стирать его одежду, а вовсе не за сказки детям.
Большая фигура заслонила слабый оранжевый свет на пороге.
— Все готово, старик?
— Да, мой вождь. Слышишь?
Мененес не ответил. Прошёл к стене, грузно сел на тючок и упёрся руками в колени. Тику вдохнул, выдохнул, успокаивая сердце. И побрёл в чулан. Неся горшок, откидывал голову, насколько мог, морщась от резкого запаха. Плоды раскачивались на стеблях, из трещин торчали щетинистые лапки, хорошо видные в свете, что лился изнутри.
Он поставил горшок в середину комнаты и сел напротив, так, чтобы сосуд стоял между ним и вождем. Только вождь сидел вдалеке, у самой стены, а Тику почти касался глиняного края посудины.
— Уже сейчас? — Мененес говорил шёпотом, глядя на бледные блики, ползающие по лицу Тику.
— Да.
Ведун нагнулся над стеблями, поднял руки, обнимая тёмный воздух, и заговорил, почти касаясь губами ближнего плода:
— От времени до времени и через время… От начала живого через жизнь и до смерти его… Выйди из трав и крови, то, что приходит из трещины, той, что проходит по краю… Между жизнью и смертью…
Запах входил в его ноздри и в рот, а когда он закрыл рот и перестал дышать, шёл в раскрытый шрам на щеке, и Тику замычал от боли. Боль была не та, что приносят когти и клыки, и не та, которую дарит тоска. Боль чужого, непонятного, того, что не скажется никакими словами. Боль от того, что в запахе и в скрипе не было ничего от человеческого мира.
Неслышно упали на влажную землю рваные кожурки ближнего плода. Бабочка сумерек сидела на стебле, вцепившись в него складчатыми лапками, и поводила глазами, блестящими, как чёрные камушки. Медленно раскручивались и снова скручивались спирали двух пар усиков. А на спине сырым комком шевелились свернутые тряпочки крыльев. Длинное тельце дышало, надуваясь и опадая, и светилось так, как светят мёртвые гнилушки в лесу, только ещё мертвее. В этом свете узор из щетинок по спине и брюшку был чётким и страшным.
Тику взялся руками за края посудины и повернул её так, что у лица оказался следующий плод. И снова зашептал слова, содрогаясь от отвращения, когда губы прикасались к шевелящемуся комку.
Вторая бабочка уронила с себя кожуру. И в хижине стало светлее. Вождь уже не откидывался, прижимая к стене широкую спину. Наклонился вперёд, глядя на шепчущего Тику, и жадно смотрел, шевеля губами за ним заклинание. Каждый раз, когда Тику передергивался от прикосновений к лицу, Мененес широко раскрывал глаза, и на его лице отражалось мучительное наслаждение.
Третья гостья, родившись, прибавила мёртвого света. И наконец все четыре, скрипя и надувая туманные брюшки, сидели на стеблях, свесив вниз тряпочки крыльев.
Тику отполз чуть подальше и поклонился, не вставая, раскинул руки, прижимая ладони к полу.
— Я, Тику, ходивший по краю, видевший смерть, говорю вам, моя темнота — для вас, моё сердце — для вас, мои уши и голова — для ваших речей. Я готов слушать.
Скрип стих. Зашуршали подсыхающие крылышки, выпрямляясь. По две пары на каждой бледно светящейся спине, каждое крыло шириной в ладонь и длиной в две ладони.
— Снова старик, не пожалей старик, ты уже почти мёртв, старик, — тонкие голоски налезали друг на друга, перемешивались и постукивали, как ребро костяного ножа о край звонкой миски.