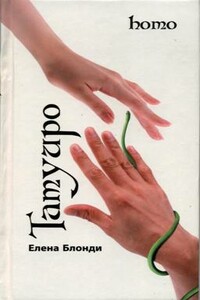Вечером, лёжа в постели, Лада рассказывала Ленке и Анет про Юру Карпатого.
— Он из нашего посёлка. Из школы выгнали или сам ушёл, компания у него была — сплошные уголовники. Мне всё издалека кивал да улыбался. А потом, когда я уже в райцентре, в техникуме, приходил к забору, помню, у нас физкультура, а он сидит на заборе, машет рукой. Приносил шоколадки. Смеялся, вот подрастёшь, Лада, и станешь моей любимой. И ничего себе не позволял. А мне что — шестнадцать, девчонки все завидуют. Да и не один он был. Болтали про него в поселке, что взрослую женщину, зав рестораном, у мужа увёл. А потом вдруг пропал, нету. Говорили, уехал, чтоб не посадили, подрался, вроде, с этим самым мужем, и тот попал в больницу, надолго. И вот, здесь встретила.
— Дела у него, видать, идут. Не тяни резину, Ладка. Будешь ходить в мехах, нет, ездить будешь. А вдруг он тебе квартирку прикупит?
— Лен…
— Что, Лен? Они приезжают, знаешь, какие хваткие? Это местные тюхи всё ждут, когда им денег в карман положат, а наши мальчики всё сами берут! Потому что свежая кровь, энергия, по телеку передача была про понаехавших тут, про нас, значит. Мы сильнее, понимаешь?
— Да не хочу я этой силы!
— А чего же ты хочешь?
— Я…
Лёжа на боку, Лада смотрела на голый Ленкин локоть с бликом от уличного фонаря. На блестящие глаза Анетки у другой стены. И поняла: не скажет им о чашке кофе в руках и песке под босыми ногами. Незачем.
— Ленусь, спи давай. Тебе завтра на свидание, нужно выглядеть.
Ленка послушно в одеяло замоталась и через минуту свистела носом.
— …А через два дня сволочь Карпатый меня в машину свою красную посадил, в иностранную свою тачку, за город увёз и изнасиловал, — сказала вслух, сидя одна в чужой хижине, пронизанной жёлтыми лучами послеполуденного солнца.
— И вся любовь…
Не боялась, что кто-то услышит, а если и услышит, не поймёт — все здесь чирикают, как птицы. Вытерла слёзы со щёк, чувствуя, как скатывается под пальцами пыль. Жалеть ли сейчас, что, полетев над выстуженным полем, над недостроенными стенами и кривой сторожкой, она изогнулась и стряхнула с руки свою ненависть, от которой сердце жгло так, что казалось — умрет прямо там, в чёрном небе? Жалеть о том, что загорелась сторожка и земля вокруг неё занялась языками багрового пламени, и те, кто внутри — конечно, пропали, сгорели — сволочь Юрок Карпатый, дружок его Жука и старый алкоголик в засаленной тельняшке?
— Нет, — сказала, уронив слово камнем на старые циновки жердяного пола. И добавила:
— Устала…
Скрипнули ступени, и солнце перестало ковырять дверь тонкими лучами. Вот он вошёл, ещё один, тот, что резал ей плечо и держал связанной. А она даже бояться устала. Только поняла, плавая в огромной усталости, теперь — никакого лада, наплевать на всё. Будет делать только то, что нужно ей, и то, чего хочется. Во всяком случае — постарается. Щит делать хотелось. Даже для него, худого волка со взглядом исподлобья, хоть он её и резал. И змея вокруг созданного на щите мира — захотелось и сделала. Хотя толстяк на дикарском троне, кажется, был недоволен.
— Найя, — сказал волк, глядя на нее тёмными глазами. И заговорил дальше, показывая на выход, а другой рукой протягивая укрытую листьями миску.
— Не знаю я, чего тебе, — ответила, — а есть хочу, конечно. Червей нету там?
Червей не было и каши не было, той, с орехами. Лежали горкой кусочки жареного мяса и какая-то остро пахнущая паста. Лада поставила миску на пол рядом с собой, стала есть руками, макая куски в острое. Во рту заныло от настоящести еды, и слюна чуть не текла по подбородку.
— А ты? — спросила набитым ртом. Он молчал, сидя на корточках напротив и глядя, как ест. Протянула ему кусок:
— Сам ел? Как тебя там? Акум? Нет, Акут, да? Акут?
Волк вдруг улыбнулся так широко, что солнце пробежало по крепким зубам. Хлопнул себя по бёдрам и качнулся, теряя равновесие. Засмеялся, как мальчишка.
— Акут! — положил руку себе на грудь, — Акут!
— Угу, снова-здорова, — она вытерла руку об циновку на полу и приложила к тайке:
— Я — Лада. Лада!
Улыбка пропала. Он затряс головой и убрал её руку. Своей приложил снова и сказал убедительно: