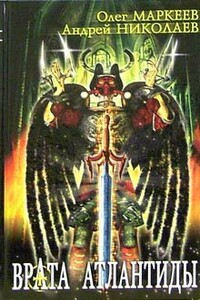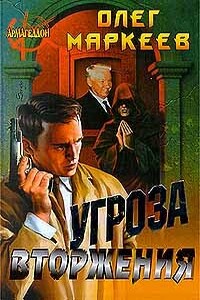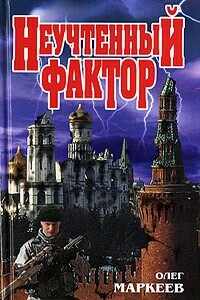А Корсаков, словно издалека, смотрел на лица, клейменные вольной, никчемной жизнью. Всклоченные волосы. Радостной жадностью горящие глаза. Мятущиеся тени, как души в аду. Изломанные и трепещущие.
И чувствовал себя средневековым бароном, призвавшим на праздник весь городской сброд. И никому, даже хозяину замка, не дано знать, чем кончится сборище: глухим запоем, черной мессой или мятежом.
Сквозь радостную суету к Корсакову пробился Борода. Пахнул в лицо свежим водочным амбре.
— Лис, я уже домой рулил, а тут новость — ты новоселье справляешь. Хоть слово бы сказал!
— Я и сам не знал.
Борода плюхнулся на пол, тяжелую, крупной лепки голову прислонил к подлокотнику.
— Респект, Лис, респект. Такую королеву оторвал. Повезло. Мужики говорят, сама все замутила. Собрала народ, кто в вашем сквоте тусовался. Нарезала фронт работ. Они тут все отскребли. Проставилась, как полагается. Бабок на закусон выдала. А потом объяву кинула — Корсаков на гудеж всех зовет. Кто же от халявы откажется?
Он вдруг вскочил. Захлопал в ладоши, привлекая к себе внимание.
— Наро-од! Ша! Говорить хочу!
— Тише ты, — осадил его Корсаков.
— Не боись, хозяин! — проблеял гармонист. — Менты баблом заряжены по фуражки. Ни одна шавка не тявкнет. Все знают — праздник здеся!
Он выдал на гармошке моцартовский пассаж.
— Тихо! — крикнул Борода.
Повернулся к Игорю.
— На правах старшины цеха портретистов и рожемазов объявляю. — Он выдержал театральную паузу. — Сюр-приз!!
Гармонист грянул что-то из «Лед Зепеллин». Сводный хор пасынков Арбата подхватил на все голоса. Под безумный хорал плотная масса тел расступилась, образовав проход на лестницу.
Из темноты выплыла картина. На ней падал и не мог упасть снег, белый, как перья из ангельских крыльев.
Корсаков онемел от неожиданности.
Из-за рамы выплыло смущенное лицо Трофимыча.
— Ты?! — только и смог выдавить из себя Корсаков.
— Ага!
Трофимыч, несмотря на призрачный свет и мельтешение теней, смотрелся вполне живым.
— Игорек, прости. Не сдержался. Тиканул я отседа. Со страху. До дома побег. Думал, вещички собрать. Новая жизня же начинается!
Кто-то принял из его рук картину, и Трофимыч рванул к Корсакову. Оперся о подлокотники, жарко зашептал в самое ухо:
— И твое хозяйство решил вынести. Слетал в подвал. А там два сучонка уже шуруют. Сейф откопали и колоть его собрались. На меня волками зыркнули. Я и…
— Завалил?! — Корсаков вспомнил, что оставлял Трофимычу пистолет.
— Так с волками же, Игорек, иначе нельзя.
— Ну, блин, дед ты дал!
— Ну и дернул я из нычки твоей, что в руки поместилось. Штук пять коробок этих вытащил. Остальное не успел. Сунулся второй раз, а там и шандарахнуло. Извини, Игорек!
В голове у Корсакова зазвенело, как после хорошего удара.
— И как ты умудрился..? — с трудом выдавил он.
Трофимыч расплылся в улыбке. Отшатнулся.
— Гуляем, бля!! — заорал он и затопал ногами. — Давай, кучерявый, наяривай!
— Счас будет злая и матерая соляга! — объявил гармонист.
И, рванув меха, выдал нечто невообразимое.
— Холи пипл, вуду пипл!! — во всю глотку затянул гармонист.
И грянул безбашенный «Ленинград».
Все озарились улыбками, дружно бросились в пляс, заухали, захэкали и загрохотали. Каждый плясал свой танец. Истово и безудержно, неукротимо.
Трофимыч, ниже всех ростом, брал яростью и энергией. Он выламывал несуразные коленца, сочетая плясовую с брейком и ритуальным танцем апачей.
— Дед, а как ты умудрился…? — Корсакову едва удалось перекричать топот, ор и гвалт.
— Так я же по липесдричеству — спец! — ухая в присядку, отозвался Трофимыч — В деревне, что коротнет, так сразу за мной бегут. Эх, Игорек, душа золотая! Прости, гада. Не гони только. Мы с тобой таких делов наделаем — небу тошно станет!
Корсаков закрыл глаза и, сотрясаясь в немом смехе, откинулся в кресле.