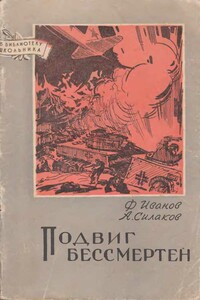— Все, хватит. Бодлер перебьется. Слишком поздно, чтобы еще и за него браться. Попробую завтра после тренировки[19].
Габриэль тоже закрыл тетради. Мы были последними, кто еще не спал. Мы прошли в просторную спальню, которую звали «дортуаром». Наши братья были уже там, они крепко спали на своей двухъярусной кровати. Мы забрались под пуховые одеяла.
Дортуар находился наверху, как и спальня родителей, и комната сестер. Но он был очень далеко от центральной трубы, от которой зимой проходило немного тепла через стены. Только героическая печь на первом этаже пыталась согреть все строение, но ее тепло к нам не попадало.
В конце концов этот новый кантон был образован. Это был великий момент. Ожидание и неопределенность результатов голосования длились до последнего момента. Когда объявили победу, все выскочили на улицу и отправились в Делемон — наш главный город. Люди обнимались, пели, танцевали. Колокола звонили, машины сигналили, их пассажиры, опасно далеко высовываясь из окон и словно повиснув на своих флагах, кричали от радости. Мы отправились туда вшестером на стареньком «Ситроене», достойном банды анархиста Бонно. Я так и не смог вспомнить, как мы вернулись. В этом всеобщем ликовании утро наступило так рано, что немногие из нас отправились в школу — да и те дремали за партами. Жизнь как бы остановилась на целую неделю, праздник никак не кончался.
Через несколько дней наша футбольная команда в эпическом отборочном матче вышла в финал, что означало переход в первую лигу. И празднества, едва успев кончиться, с этим новым поворотом начались снова. И нас снова носило от улицы к улице, от бара к бару, от смеха к смеху, от песни к песне, от одних торжественных заявлений к другим. Должен признаться, что очень смутно и отрывочно помню эти десять «очень ночных» дней. Я проснулся гораздо позже, словно вышел из комы, не в силах отделить сон от реальности, так тесно все переплелось. Но Юра умеет лечить последствия своих праздников, и из них выходишь по неведомому волшебству — хотя, наверное, это чары памяти, такой избирательной, что она хранит лишь те воспоминания, что отмечены нежной ностальгией, безо всякого похмелья. Регион Юра, идеалистичный, бунтарский и веселый, был землей моего детства и юности. И поскольку то и другое были счастливыми, для меня Юра всегда останется страной счастья.
Когда все сложнейшие вычисления и выкладки оказываются обманчивыми, когда даже философы больше не могут нам ничего предложить, тогда позволительно обратиться к толкованию щебета птиц или далекого хода светил.
«Воспоминания Адриана» Маргерит Юрсенар, 1903–1987.
Цюрих,
2001–2012
Сумерки окрасили город красным. Я открыл застекленную дверь, выходящую в «мой сад[20]», и встал в проеме. Прозрачная дымка окружила луну мерцающим ореолом. В те времена, когда мы вглядывались в небеса, чтобы предугадать их содрогания, этот ореол сулил бы нам шквалы и дожди. Несколько тяжелых туч были словно пригвождены к горизонту. Вдруг из ниоткуда возникло движение. Деревья затрепетали. Верхушки качались, ветви описывали широкие круги. По старой привычке я стал искать ветер, но не находил его. Раньше я бы искал в этом беспричинном волнении предчувствие, примету или даже знак свыше. Картезианская суровость моего профессионального мышления несколько подавила этот инстинкт, с помощью которого я одно время пытался постичь порывы Природы. Я присел на корточки, чтобы изменить угол зрения, и прищурился, чтобы усилить остроту восприятия.
Бесполезно — я ничего не увидел.
Движение за спиной отвлекло меня от созерцания и вернуло в реальность. Приехали родители Титуана. Его самого здесь нет. Уже несколько дней он лежит в отделении интенсивной терапии. Я подошел к ним: приветствия, рукопожатия, приглашение присесть. Отец — очень характерный типаж, полностью вошедший в роль главы семейства — немедленно дал понять свое превосходство над матерью, отошедшей в тень.
Оба они знали о проблеме своего сына. Они приехали ко мне не только для того, чтобы познакомиться с хирургом, который вскоре будет заниматься их сыном, но и для того, чтобы подтвердить свои знания.