Покатилов постоял еще с минуту у окна, потом снял с вешалки плащ, погасил свет и вышел.
В холле на первом этаже сидели в креслах и спорили Мари, Шарль, Яначек и голландец Ханс Сандерс.
— Продолжение пленарного заседания или начало работы редакционной комиссии? — осведомился Покатилов по-немецки.
— Прекрасно, что ты появился, — сказал Сандерс. Его лицо казалось немного припухшим. — Как ты считаешь, имеем мы право спать здесь, в Брукхаузене?
— Мсье профессор — математик и, следовательно, рационалист, он, конечно, не поддержит нас с тобой, Ханс, — глубоким голосом произнесла Мари. Покатилову почудился в ее словах некий вызов.
— Меня зовут Константин, мой номер тридцать одна тысяча девятьсот тринадцать, — приветливо сказал он ей. — А ты — бывшая узница Равенсбрюка и Брукхаузена. Не так ли?
— Браво, Покатилов, — сказал Яначек.
— Да, — ответила Мари. — Кстати, Гардебуа называл тебя Констант. Это хорошо звучит по-французски. Как меня зовут, ты знаешь…
— Тебя зовут Мари, — сказал Покатилов. — Насколько я поникаю, ты с Хансом утверждаешь, что спать нам теперь в Брукхаузене нельзя.
— Абсолютно! Спать в Брукхаузене было бы преступлением. — По-немецки Мари говорила чисто, но «Брукхаузен» произносила на французский манер.
— А мне нигде так хорошо не спится, как здесь, — потягиваясь, пробормотал Яначек.
— Я здесь тоже сплю прилично, — просипел Шарль.
По-видимому, они продолжали дурачиться, а Покатилов настроился выйти на улицу, в темь, чтобы побыть наедине со своими мыслями, переварить впечатления этого необыкновенного дня.
— Последний раз я спал здесь ровно двадцать лет назад. Тогда я спал, — сказал он. — Можно ли и надо ли спать сегодня — я не знаю. Вероятно, все зависит от того, что предлагается взамен.
— Еще раз браво, — усмехнулся Яначек.
— Я предлагаю сесть в автомобиль, и через час мы будем в «Мулен-Руже», а желаете — в казино «Ориенталь» с сенсационной ночной программой, — заявил Сандерс. — Ты за или против, Покатилов?
— Советские люди не посещают капиталистических кабаков, — сказала Мари.
— Советские люди не закрывают глаза на язвы буржуазной цивилизации, — с усмешкой ответил Покатилов. — Но я лично хотел бы сперва убедиться, смогу ли вообще заснуть…
— Кроме того, мсье профессор еще не решил, удобно ли ему брать с собой в ночной бар личного секретаря, — продолжала Мари, глядя на Сандерса.
— Отчего ты так агрессивна, Мари? — улыбаясь, спросил Шарль.
— Ты прав, Покатилов, я на твоем месте тоже ни на один час не расставался бы с такой очаровательной помощницей, — расхохотался Яначек.
— Вы болтуны, — проворчал Сандерс. — И лентяи. Идемте ко мне и выпьем по рюмке коньяку.
— Я уверена, что московские профессора не пьют коньяка, — сказала Мари.
— Я могу сварить кофе, — предложил Яначек.
— Так куда мы двинем вначале — в «Мулен-Руж», к Яначеку или ко мне? — спросил Сандерс.
— Вначале я хотел бы немного проветриться, — сказал Покатилов. — Какой номер твоей комнаты, Ханс?
— Тринадцать. Яначек, ты в шестой?
— В пятой.
— Мы с Мари в седьмой, — обрадованно пролепетал Шарль.
— Я во второй, — сказал Покатилов.
Он шел по пустынной, тускло освещенной улочке Брукхаузена и размышлял о превратностях судьбы. Мог ли в свои юные годы вообразить сын амстердамского банкира Ханс Сандерс, что когда-то очутится в нацистском концентрационном лагере и свыше года будет вкалывать в каменоломне рядом с польскими партизанами и французскими подпольщиками, спать по соседству с немецким богословом, стоять за брюквенной похлебкой в одной очереди с военнопленными русскими солдатами? В странном, пестром мире, каким был фашистский концлагерь, беспощадно проявлялось подлинное лицо каждого: трусы и эгоисты подчас становились помощниками палачей, честные, но слабые отчаивались и нередко кончали с собой, честные и сильные искали себе подобных и объединялись для борьбы. Покатилову припомнилась монография французского профессора католика Мишеля де Буара «Маутхаузен». Буар, старый маутхаузенец, в своем исследовании признал, что ни одна организация Сопротивления в гитлеровских концлагерях не родилась вне влияния коммунистов и не развивалась без их активного участия.




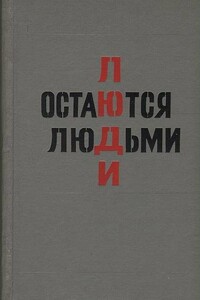


![Когда-то я скотину пас [сборник]](/uploads/books/images/c4/c4802de943fb89a35fb009b37289c29088cb308b.jpg)
