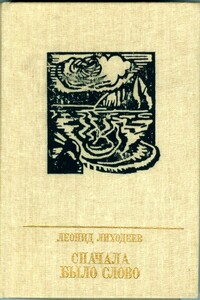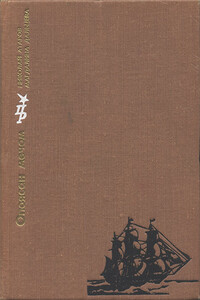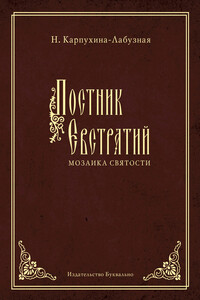Рассказы Михаила Бестужева так врезались в память, что, казалось, Рылеев знал Александра с самого детства, хотя знакомство было недавнее.
— Чего же мы ждем? — спросил Бестужев, разливая водку по чаркам. — Я тебе все сказал. Выпьем не присаживаясь — и с богом! Ужасно тороплюсь.
Глухо звякнули серебряные чарочки. Друзья обнялись и, не успев освободиться от объятий, услышали густой бас:
— Прелестная картина! О, дружба — это ты!
В дверях стоял высокий, плотный, румянощекий, неторопливый молодой человек. Он смотрел на расчувствовавшихся друзей, улыбаясь. Казалось, не только лицо его, но и сама фигура излучала спокойствие и благожелательность.
Рылеев бросился ему навстречу.
— Вот как повезло сегодня, — говорил он. — Лучшие люди столицы посещают мой дом. — И, повернувшись к Бестужеву, представил: — Ринальдо Ринальдини. Мой лучший друг.
— Повернется ли язык назвать мое скромное имя, — мгновенно включаясь в тон, сказал пришедший. — Иван Иванович. Пущин.
Все трое, по-прежнему не присаживаясь, выпили еще по чарочке, и Бестужев снова заторопился.
— Давно пора идти. Меня ждут у герцога Вюртембергского, — и, обратясь к Пущину, добавил: — Кондратий расскажет, какая слава идет о вашем ведомстве.
Как он верен себе! Рылеев не мог не рассмеяться. Упомянув о герцоге Вюртембергском, чтобы произвести впечатление на Пущина, он и товарища не забыл — пусть похвалится, как о нем отозвались в кабинете у Милорадовича. Стрела была пущена без промаха. Пущин тут же после ухода Александра спросил:
— Так что же о нас говорят?
— Говорят, что в Петербургской уголовной палате невинного не засудят.
— Вот это отзыв! Редко можно услышать похвалу нашим судам.
Говорил он спокойно, даже лениво, но Рылеев догадывался, как ему приятна эта похвала. Ради отнюдь не почетной работы в суде он добровольно пренебрег блестящей карьерой, Пущин вырос в родовитой семье, был внуком адмирала, окончил аристократический Царскосельский лицей, определился в блестящий конноартиллерийский полк, но прослужил там недолго и подал в отставку, чтобы пойти служить судьей в уголовной палате. Отказаться от блестящей карьеры и стать судейской крысой! Можно представить, какие раздоры поднялись из-за этого в его семье.
И, будто угадав его мысли, Пущин повторил:
— Редко можно услышать похвалу нашим судам. Принято думать, что ими завладели мелкие чиновники, чтобы проще было погреть руки. Недавно на балу у князя Голицына я танцевал с его дочерью. Старик Юсупов, великолепный могиканин екатерининских времен, из тех, что живут и умирают в Москве, пребывая в состоянии фронды ко всему, что непохоже на старину. Он спросил, с кем танцует Голицына. Ему ответили, что с судьей. «Быть не может! Дочь генерал-губернатора с судьей! Тут что-то кроется». Старик, конечно, не пророк, но угадчик.
— И что же кроется? — живо отозвался Рылеев.
— Вольномыслие, верно. Язва наших молодых людей.
Говорил Пущин неспешно, почти небрежно. Все манеры его и спокойное достоинство создавали образ человека положительного, относящегося серьезно ко всему на свете. Но иногда, и это особенно нравилось Рылееву, левый глаз его подмигивал, то ли непроизвольно, то ли нарочно. И тогда казалось, что он сам смеется над тем, что говорит, да и вообще над всем на свете. В такие минуты становилось понятно, почему он в такой дружбе с этим заносчивым ветреником Пушкиным.
— Вы говорите — язва, но этой болезнью заражены все образованные молодые люди. Все ищут выход. Где же он?
Пущин поглядел в окно, за которым уже не было ничего видно, и, не глядя на Рылеева, ответил так же небрежно:
— В конституции должно. Конституция суть гражданский кодекс законов. Мы с вами служим в ведомстве, где закон должен быть священен. Но часто ли удается нам его выполнять? И каких усилий это стоит. Да и можно ли говорить о конституции, когда монарх во всякую минуту волен носком сапога отшвырнуть закон?
— А ведь когда-то еще в Польше он обещался даровать конституцию…
— Даровать? Конституцию не подносят в бонбоньерке. Ее вырабатывают лучшие умы государства. А эти посулы… Я думаю, он и сам не верил в них, даже когда сулил. А теперь… кто ее сочинит теперь? Аракчеев?