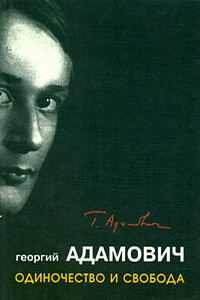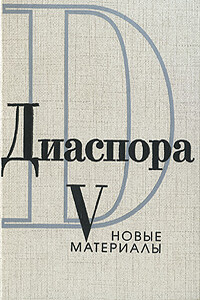К старичку, по его бедности, отношение было пренебрежительное.
— Будьте любезны, сударыня… биточки в сметане!
— Сегодня биточков нет. Я вам принесла зразы.
— Но я не люблю зраз.
— Что за капризы! Кушайте, что дают. В другой раз:
— Борщ что-то как будто не очень горячий.
— А вы, может быть, хотели бы, чтобы он для вас кипел целый день?
Длилось это несколько лет. Старичок все молчал. Наконец он совсем одряхлел, слег и попал в больницу. Пришло ему время умирать. За несколько минут до смерти он приподнялся на постели и еле слышно сказал:
— Много я обид в «Ласточке» видел! Вздохнул и умер.
* * *
Поздно вечером в кафе «Мюра», вдвоем с Ходасевичем, только что расставшимся со своими партнерами-бриджистами.
Он утомлён, нервен и как-то более лиричен, чем обычно. Разговор, конечно, о поэзии. Строчки Блока:
Будьте ж довольны жизнью своей,
Тише воды, ниже травы…
Ходасевич вздыхает, разводит руками.
-Да, что тут говорить!.. Был Пушкин и Блок. Всё остальное – между.
Эти его слова, – которые помню совершенно точно, – позднее я передал Алданову. Он был ими озадачен.
– Как? А Тютчев? А ваш же Некрасов? А, наконец, Лермонтов?
Но в каком-то смысле Ходасевич был прав, даже если в этом почти столетнем «между» были поэты и крупнее Блока.
* * *
Алданов на каком-то банкете или обеде в Ницце встретился с Метерлинком. И, сидя за столом с ним рядом, сказал ему:
— Я никогда в жизни не видел Толстого и до последнего своего дня буду жалеть об этом. Но теперь у меня есть утешение… вы, конечно, понимаете, какое!
Метерлинк, по его словам, был чрезвычайно доволен, а разговорившись о Толстом, сказал, что, по его мнению, «Власть тьмы» — самая замечательная драма из всех, написанных после Шекспира.
* * *
Тэффи, чуть-чуть смеясь глазами, но с самым деловитым и серьезным видом рассказывает:
— Сижу я вчера вечером в кафе, против монпарнасского вокзала. Вдруг вижу, из бокового зала выходят много пожилых евреев, говорят по-русски. Я заинтересовалась, остановила одного и спрашиваю, что это было такое… А это, оказывается, было собрание молодых русских поэтов.
* * *
Мережковский и Лев Шестов не любили друг друга, а полемизировать начали еще в России, — из-за Толстого и его отношения к Наполеону. Книга Мережковского «Толстой и Достоевский» — о «тайновидце плоти» и «тайновидце духа» – прогремела в свое время на всю Россию.
Шестов, уже в эмиграции, рассказывал:
– Был я в Ясной Поляне и спрашивал Льва Николаевича: что вы думаете о книге Мережковского? – О какой книге Мережковского? – О вас и о Достоевском. – Не знаю, не читал… разве есть такая книга? – Как, вы не прочли книги Мережковского? – Не знаю, право, может быть и читал… разное пишут, всего не запомнишь.
Толстой не притворялся, – убедительно добавлял Шестов. Вернувшись в Петербург, он доставил себе удовольствие: при первой же встрече рассказал Мережковскому о глубоком впечатлении, произведенном его книгой на Толстого.
* * *
Марина Цветаева на собрании «Кочевья», литературного кружка под предводительством Марка Слонима.
У нее еще длится её увлечение кн. Волконским, и в перерыве она во всеуслышание советует одному из молодых прозаиков читать его как можно усерднее.
– Читайте Пушкина и читайте Волконского! Лучшего языка я не знаю.
Вероятно, я улыбнулся, потому что, взглянув на меня, он не без запальчивости сказала:
– Вот Адамович, кажется, не согласен!
– Нет, отчего же… Просто мне вспомнилось то, что о языке Волконского сказано в дневнике Блока.
– А что? Не помню.
– У Блока сказано: «Князь Волконский всех учит русскому языку, а сам изъясняется со среднекняжеской грамотностью».
Цветаева вспыхнула и «отрезала», – совсем как незабываемая курсистка в шигалевской главе «Бесов»:
– Не согласна. Это, значит, моё третье расхождение с Блоком.
Какие были первые два, я не знаю.
* * *
В Петербурге, где-то на Моховой, на сводчатом чердаке, убранном с подчеркнуто футуристической художественностью, – многолюдное, шумное сборище. Пластинки Изы Кремер и Вертинского, прерываемые бранью поэтов, оскорблённых в своей эстетической чуткости, попытки читать стихи, прерываемые танцами, много вина и водки.