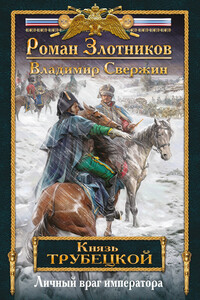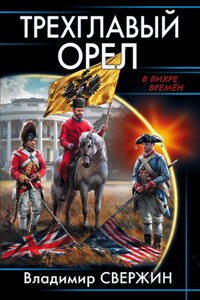Обрастая деталями и подробностями, слухи росли и ширились. Ясно было одно — те, кто сражался на змеевой стороне, победили. Теперь же из слов Гарри следовало, что сам король королей — сильный над сильными мира сего, — презрев смерть, возвратился не грозным мстителем, а кротким юношей, чтобы нести спасение уверовавшим. Все это поражало воображение, заставляло содрогнуться, но принять сплетенных змей символом веры…
Для подавляющей части стоявших на площади в этом крылось нечто большее, чем просто святотатство: крушение мира, смещение верха и низа, добра и зла — всего того, чему учили сызмальства. Однако много находилось и таких, кто без промедления заорал во все горло: «Верую!» — в основном молодые крепкие парни. Огонь речей Гарри рождал ответный пламень в их очах, и оттого крик на площади становился все неистовее. Постепенно к нему присоединялись новые голоса, и скоро рев одобрения несся отовсюду, куда только достигал взор.
— Этим мясникам — головы с плеч! — Гарри кивнул в сторону пленных рыцарей. — А этим… — он посмотрел на монахов, — с ними разговор другой будет. Всю жизнь, укрывшись за стенами обители, они и подобные им мироеды жировали, убеждая нас, что бормотания и завывания в храмах спасают от каких-то невзгод и предвещают жизнь вечную. Но в одной только песне любого из бардов смысла и святости больше, чем во всех псалмах монастырской братии. Пусть же теперь их всеблагой бог поможет смиренным клирикам честно потрудиться во благо каждого из нас — они расплатятся за хлеб, что мы им давали!
— Пусть! — заорала толпа. — Пусть расплатятся!
— Отныне их жребий — выгребные ямы и сточные канавы! А если не пожелают в поте лица добывать хлеб свой, эти же канавы станут их домом и последней обителью!
В жмущихся к стене монахов полетели гнилые овощи, грязь, камни и куски навоза.
— Слава принцу Гарри! — крикнули в толпе, тысячи голосов подхватили славицу, и ветер разнес ее по всему Уэльсу.
— Этого ко мне! — благосклонно принимая данный народом титул, показал предводитель мятежников и ловко спрыгнул в седло. — Вот этого старика — аббата Кеннета.
Настоятель Самманхэртской обители аббат Кеннет был человеком не робкого десятка. Ему — сыну и внуку рыцарей, выросшему на рассказах о доблести предков не менее, чем на проповеди смирения, — не впервой было встречать опасности на своем пути. Всякий раз вера в слово Божье помогала ему одолевать козни лукавого. Но теперь испытание представлялось отцу Кеннету последним из выпавших на его долю. Когда мятежники со змеиной троицей на знамени ворвались в монастырь, настоятель еще питал надежду остановить их святостью места и знаком креста, но тем было все нипочем.
Подобно варварам Атиллы, которого великий Григорий Турский именовал бичом Божьим, врывались они под своды храма и в кельи братии, хватая, что попадет под руку, и убивая осмелившихся хотя бы возвысить голос, а уж тем паче — оказать сопротивление. Аббат Кеннет и сам не надеялся пережить тот ужасный день, но Господь сулил ему иное. Предводитель мятежников сохранил пленникам жизнь лишь затем, чтоб у ворот крепости они держали щиты над головами орудовавших тараном разбойников.
Помещение, куда доставили отца Кеннета, было ему хорошо известно. В прежние времена здесь находились личные покои главы епархиального суда, но теперь голова несчастного, насаженная на пику, торчала у входа, недвусмысленно свидетельствуя, что хозяину жилище уже не понадобится. Настоятель с грустью подумал, что рядом есть место для еще одной пики, но промолчал, читая про себя боговдохновенные слова молитвы «Ave Maria gratia plena».
Новый Атилла ждал его, сидя за пиршественным столом, на котором вместо серебряных блюд и чеканных кубков стояла глиняная миска с похлебкой да кружка эля.
— Ешь, пей, — то ли приглашая, то ли командуя, жестко произнес Гарри.
— Если настал мой смертный час, я предпочту немного подождать и вкушать пищу, обещанную праведникам в царствии Божием, нежели брать кусок со стола твоего.
— Гордец, — глядя из-под насупленных бровей, криво ухмыльнулся Гарри. — Твой смертный час не настал и, верно, еще не скоро настанет.