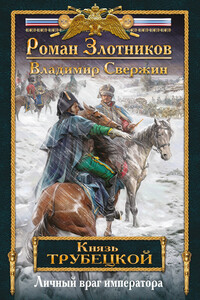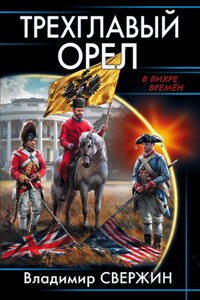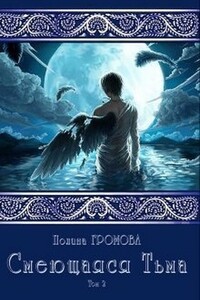Тимир-Каан не любил городов. Терпеть их не мог. Окруженные стенами, они казались ему западней, которая вот-вот должна захлопнуться. Ему, степняку, выросшему под шлемом, нужен был простор, где всегда есть возможность развернуть коня и, быстрым маневром сбив с толку врага, разгромить его, разорвать в клочья. Там, в степи, он был в своей стихии. Здесь — тревога не оставляла его ни на минуту.
Когда нынче он увидел приближающееся к Тмуторокани ромейское войско, Тимиру показалось, что он физически слышит над головой свист аркана. Сама мысль о том, что очень скоро придется сражаться бок о бок с Григорием Гаврасом, представлялась дикой и нелепой — все равно что с волком охотиться на ягнят: не то, что не будет добычи, но только воспользоваться ею вряд ли сумеешь.
Издали Тимир-Каан следил, как беседует кеназ Давид с архонтом Херсонеса, как уходят они в княжьи хоромы, чтобы говорить о том, что не положено слышать другим.
«Теперь я ему не нужен, — думал степняк. — Если молокосос сам этого не понимает — Гаврас ему разъяснит. Надо ударить первому. Если еще можно ударить сейчас. Или же…»
Возле стоящего в раздумьях Тимир-Каана остановился один из новиков[64] князя Давида:
— Мой господин ищет тебя. Нынче он устраивает пир и желает видеть на нем знатнейших из рода твоего.
Тимир-Каан мотнул головой, то ли соглашаясь, то ли отгоняя назойливую муху.
«Пир?!» — Ему не раз доводилось слышать, какими блюдами ромеи потчуют тех, с кем хотят распрощаться навсегда. Порою даже владыки Константинополя не приходили в себя после дружеских возлияний. А уж что говорить о нем? Как бы не стало пиршество ему погребальной тризной.
— Передай своему господину, что я непременно приду в его дворец. — Тимир-Каан развернулся спиной к гонцу и, сопровождаемый пятеркой верных нукеров, зашагал к городским воротам, где от башни до башни стояла касожская рать.
«Много новых лиц, — про себя отмечал он, ступая по мощенной каменьями улице. — И все как один не спускают с меня глаз. Отчего плащи их оттопыриваются кинжалами?.. Из-за ограды постоялого двора слышится звон доспехов… Для ромейского войска места еще поди сыщи. Но здесь, совсем рядом от моих людей…»
Тимир-Каан снова пожалел, что находится в городских стенах и что не увел вовремя своих людей обратно к отрогам кавказских гор.
«Если Давид с Гаврасом хотят моей смерти, то возможность для этого — лучше не придумаешь. В тесноте городских улиц тяжелая ромейская пехота куда сильнее спешенных наездников. Аланы же пускают стрелы не хуже касогов…» Думая так, Тимир-Каан подошел к воротам постоялого двора и тут же наткнулся на сумрачную и явно готовую к бою стражу.
— Мы желаем войти, — подбоченившись, сказал Тимир-Каан.
— Не велено пускать.
— Да знаешь ли ты, кто я?
Стражник окинул настойчивого гостя подозрительным взглядом и подозвал офицера.
— Я Тимир-Каан, побратим князя Давида, — гордо объявил предводитель касогов.
— Что же вам нужно здесь? — Рослый воин, по виду центурион, внимательно посмотрел на собеседника, но даже не подумал сдвинуться с места.
— Проклятие! Я и мои люди желаем ракии! — заглядывая через плечо ромея во двор, гневно закричал Тимир-Каан.
— Вам ее принесут, — не меняясь в лице, ответил центурион.
«Ромеи не становятся лагерем, — сделал вывод Тимир-Каан, — они ждут приказа. — Он вспомнил и о наблюдателях, следивших за каждым его шагом. — Что-то надо делать и очень быстро! Пытаться сейчас поднять людей бесполезно — едва они успеют схватиться за оружие, их тут же превратят в кровавую кашу. А значит, выход должен быть другой. Но какой? Эти, с кинжалами, следят неотлучно. Вероятно, им приказано нападать только в случае крайней необходимости, иначе давно бы набросились, а не стали звать на пир. Пытаются усыпить бдительность. — Тимир-Каан погладил длинный ус. — Дадим почувствовать, что обман удался, и обманем сами».
— Я хочу ракии! Слышишь, ты, длинноносый! Принеси мне ракии!
Центурион чуть заметно дернул уголком губ, повернул голову к одному из стражников и распорядился поскорее доставить варвару чан с пьянящим напитком.
«Надеюсь, у них нет под рукой сонного зелья. — Тимир-Каан выхватил из рук солдата вместительную братину и, зачерпнув браги, задвигал кадыком, изображая, как жгучая струя вливается в его горло. — А теперь, пошатываясь, к конюшне».