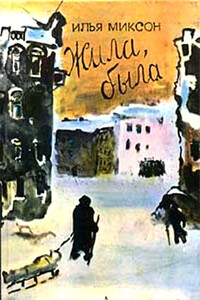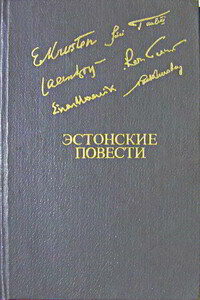— Куды уж тебе, — вздохнула женщина и взвалила на плечо нелегкий груз. Другой рукой она обхватила лейтенанта и повела в дом.
Не обращая внимания на слабые протесты, женщина стянула с его ног кирзовые сапоги, уложила лейтенанта на мягкую постель, потом на грудь и лоб положила влажные полотенца. Женщина хлопотала над ним, пока не убедилась, что ему становится лучше.
— Отдыхни, отдыхни, — сказала мягким говором кубанской казачки и перестала обращать на лейтенанта внимание, занявшись домашними делами.
Лейтенант слышал, как она возилась с примусом, как упруго забилось пламя, заплескалась вода, звонко, потом глуше наполнялся чайник, коротко тренькнула крышка и притихло накрытое пламя.
Скрипнула дверь, прошлепали босые ноги и замерли.
— Это хто, мам? — спросил тонкий детский голосок.
— Командир, сынок, — сказала женщина из сеней. — Раненый он, недолечился, видать.
— А чо он на твоей кроватке?
— Плохо ему, сынок, хворый он.
Лейтенант размежил веки и попробовал улыбнуться. Улыбка, наверное, вышла пугающей, потому что маленький черноволосый человечек в штанишках с лямками накрест спешно попятился назад и выскочил в сени.
— Чего ты спужался, сынок?
— Дядя плачет, — слезливо и испуганно сказал мальчик.
Женщина выглянула в открытую дверь, губы ее дрогнули.
— Не плачет, сынок. Ранение у его такое. — Она пригладила черные волосы сына и улыбнулась лейтенанту, светло и нежно. Лицо ее стало необыкновенно привлекательным, даже красивым. — Так же, товарищ командир?
— Так, — ответил он, но улыбнуться не решился.
Женщине было лет двадцать пять — двадцать семь, не больше. Возраст он определил по сыну — тому, наверное, года через два в школу. На вид женщина выглядела совсем молодо — статная, острогрудая, с мягким и крутым изгибом талии. Лишь присмотревшись внимательно, можно было заметить ранние морщинки у глаз и у рта. И глаза у нее были красивыми, темными, под стать гладко зачесанным назад волосам.
Женщина почувствовала перемену во взгляде и мыслях, спросила, усмехнувшись:
— Ожил, значит?
Лейтенант зарделся, как застигнутый за дурным делом, рывком сел на постели, но сразу потемнело в глазах, и он рухнул на подушку. Женщина бросилась к нему, злясь на него, злясь на себя за неосторожные слова.
— Бог с тобой! Лежи, миленький, лежи. — Она сбегала в сени, намочила подсохшие полотенца и приложила к его телу. — Отдыхнешь, напьешься чаю и пойдешь себе. Силком держать не буду. — Последние слова прозвучали с едва приметной грустью.
Лейтенант, наверное, уснул. Когда открыл глаза, стол был накрыт для обеда: две глубокие глиняные миски, чугунок, укутанный платком, голубой, с черными щербинками чайник, в плетеной хлебнице — три ломтика ржаного хлеба.
Женщина сидела, подперев щеки голыми до локтей руками, и, не мигая, смотрела на него, но мысли ее, очевидно, витали где-то далеко — она не сразу заметила, что гость проснулся. Лейтенант шевельнулся, она очнулась от своих дум, но не отрешилась от них.
— В пехоте воюете?
— В пехоте…
— Часом, не приходилось служить с моим Федором? Сидорин фамилия ему, Федор Григорьич.
Сидоровых было в его роте двое. Одного, кажется, звали Федором. Только Сидоров, не Сидорин.
— Не помню такого, — с сожалением ответил лейтенант.
— Конечно, усех не упомнить, — легко согласилась женщина. — Для жены он один, для сына один, а для вас тыща таких солдат, и усе одинаковые.
Она была права и не права, но лейтенант не стал доказывать и оправдываться, спросил только:
— Давно не писал?
— Та не, с неделю как треуголка пришла.
— Тогда порядок, — подбодрил он.
— Давнее письмо, — продолжала она, лицо ее окаменело.. — Еще при жизни написано. А похоронную вчера месяц как прислали. Могила где — неизвестно, хоть цветочки высадить.
Лейтенант спустил на пол босые ноги. Чувствовал он себя как обычно в последнее время и боялся вторично свалиться на глазах у этой женщины. У нее своей беды по горло.
Она проворно подскочила, помогла встать. Лейтенант ощутил теплые и сильные женские руки, налитую грудь.
— Теперь ничего?
Она все еще поддерживала его, и ему жаль было лишиться приятной близости.
— Ничего, — сказал пересохшими губами, — лучше.