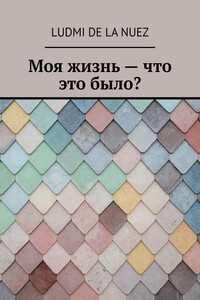В свое время Ю.М. Лотман заметил, что «любой спор вокруг вопросов XVIII века в России до сих пор немедленно приобретает актуальный и отнюдь не академический характер. Это свидетельствует, что эпоха XVIII века для нас еще не кончилась, и мы смотрим на нее глазами заинтересованных современников»544. Это может считаться как бы некоторым итогом его размышлений над XVIII веком, который всегда занимал ученого и как предмет исследования, и как очень содержательная эпоха русской жизни. И далее Ю.М. повторил свою мысль о том, что «XVIII век для русской культуры еще не ушел в спокойное академическое прошлое, он продолжает бурлить и вызывать страсти»545.
Н. Трубецкой в письме к Якобсону предложил такое объяснение этому «бурлению»: «…Вся эволюция русской поэзии от Державина до Маяковского совершенно внутренне логична и осмысленна, так что ни один из моментов этой эволюции не нуждается в выведении из внелитературных фактов: но в то же время, конечно, неслучайно хотя бы то, что расцвет символизма совпал с предреволюционным периодом, а расцвет футуризма – с началом большевизма»546.
«Бурление» вокруг литературы XVIII века началось тогда, когда в поэзии ХХ века появилось новое влиятельное направление, заявившее себя как бы продолжателем допушкинских традиций русской поэзии. Но для того, чтобы этот возврат к XVIII веку мог быть осуществлен, надо было преодолеть утвердившееся в академической науке непререкаемое убеждение в том, что литературу XVIII века характеризует «…отсутствие живого отношения к действительности <…> и почти совершенное отсутствие творческих созданий в каком бы то ни было роде»547 – так писал Леонид Майков, много и плодотворно потрудившийся для фактического изучения литературы XVIII и начала XIX века.
Владислав Ходасевич на себе испытал школьно-традиционное отношение к Державину и вспомнил о нем в 1916 году, когда участвовал в дружном открытии поэтических богатств Державина: «На школьной скамье все мы учим наизусть “Бога” или «Фелицу», – учим, кажется, для того только, чтобы раз навсегда отделаться от Державина и больше к нему добровольно не возвращаться. Нас заставляют раз навсегда запомнить, что творения певца Фелицы – классический пример русского лжеклассицизма, т.е. чего-то по существу ложного, недолжного и неправого, чего-то такого, что, слава Богу, кончилось, истлело, стало “историей” – и к чему никто уже не вернется»548. В той же статье Ходасевич дал очень точную историко-литературную оценку Державину. Сама же статья Ходасевича является одним из признаков того «бурления», которое происходит вокруг XVIII века с тех пор, как его открыли эстетически.
В 1938 году, в одном из последних своих стихотворений Ходасевич снова вспомнил XVIII век – на этот раз Ломоносова:
Из памяти изгрызли годы
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым криком жизни стал
549.
Ссылаясь на Белинского, Пыпин в самой солидной и самой распространенной «Истории русской литературы» писал, что «Державин сохраняет за собой только исторический интерес»550. Ссылка на Белинского неточна. К отзывам Белинского о Державине надо подходить исторически, надо понимать, в какой литературной ситуации они были высказаны. Белинский видел в русской литературе нечто общее и важное, такое ее внутреннее свойство, которое свидетельствовало о том, что в ней происходила заметная эволюция, саморазвитие: «Нашу литературу вообще нельзя обвинить в стоячести и окаменелости. В ней всегда было движение вперед, даже в ломоносовский период. Если Херасков и Петров не только не подвинулись перед Ломоносовым, но еще отстали от него, хотя явились и после, зато какая же чудовищная разница между Ломоносовым и Державиным, между притчами Сумарокова и баснями Хемницера, между комедиями Сумарокова и комедиями Фонвизина, между прозою не только Сумарокова, но и самого Ломоносова, даже какая значительная разница между драматургом Сумароковым и драматургом Княжниным»551.
В статьях «Сочинения Державина» и в первой статье пушкинского цикла Белинский уловил то живое начало, которое было в русской литературе и определяло ее художественное значение, а не только историческое, на котором настаивала академическая наука второй половины XIX века. В 1840-е годы Белинскому пришлось отстаивать свою точку зрения на Державина как на одного из самых значительных предшественников Пушкина в русской литературе от реакционной критики, утверждавшей, что великим гением русской поэзии является Державин, а Пушкин – только его талантливый продолжатель. Перед Белинским стояла задача – определить истинное значение Державина, не впадая ни в односторонний критицизм, ни в апологетику. В статьях «Сочинения Державина» (1843) Белинский показал, что внутренние противоречия державинского стиля объясняются его эпохой. В оценке Белинского органически соединяются исторический и эстетический критерии, и Державин предстает в его статьях как великий поэтический талант, самые слабости которого выразили его эпоху в той же мере, как и его поэтические достижения – чувство русской природы, понимание существенных черт национального характера, гуманизм и правдоискательство.