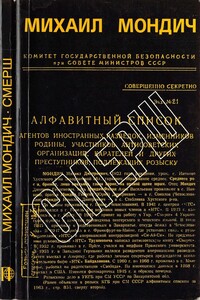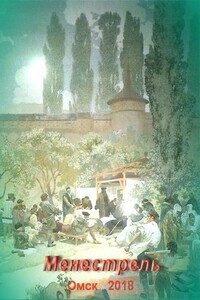Абсурдность мира, который он изображает, не требует ухищрений авторской фантазии. Она ждет внимательного глаза и отзывчивого уха. Для того чтобы этот вывихнутый мир стал понятен и раскрыт нормальному человеческому восприятию, нужны именно те писательские свойства, которые у Сергея Довлатова есть: его понимание нормы и свобода от предубеждений. То, что Пушкин называл свободой от любимой мысли.
У Довлатова мы не найдем ни монстров зиновьевского Ибанска, ни гиньольных персонажей харьковского дна из рассказов Милославского, ни амбициозных героев Лимонова. В книгах Довлатова живут и действуют просто люди, со всеми их привычно человеческими качествами. Они смешны не тем, что они уроды и раритеты. Они смешны, как все, как мы с вами, когда жили в мире подмены и «перевоплощения» (не по Станиславскому!).
И так же, как дети России смеялись и смеются над приключениями Тома Сойера, так современные американцы, наверное, от души веселятся, читая Довлатова.
У него они находят не только экзотический мир тоталитарной страны – это они могут найти и у других писателей-эмигрантов. У Довлатова западный читатель узнает и себя, те свои общечеловеческие страстишки, слабости, компромиссы и уступки, которых так много на жизненных дорогах каждого. И в этой всеобщности довлатовского юмора – может быть, главное достоинство его прозы.
После первой русской революции 1905 – 1907 годов Вячеслав Иванов свое общее отношение к литературе XVIII века высказал в статье под многозначительным названием «Гете на рубеже двух столетий». Особенно интересны его суждения об известной, конечно, и многих удивившей любви Наполеона к «Вертеру»: «…не потому ли, что под оболочкой изображенной в романе сентиментальной психологии, под туманностями мировой скорби, таилась искра родного ему (Наполеону. – И.С.) мятежного огня – семя подлинного духовного бунта, которому суждено было вспыхнуть мировым пожаром?»542 Это историческое движение, уловленное В. Ивановым в мировой скорби немецкого юноши конца XVIII века и названное им «мировым пожаром», стало понятно наиболее проницательным умам и в России. Оно требовало от русской литературы осмысления происходящего.
В 1797 году Карамзин в журнале французских эмигрантов, выходившем в Гамбурге, процитировал те строки из «Писем русского путешественника», которые стали известны в России только в 1866 году. Даю их в переводе Ю.М. Лотмана: «Французская революция – одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков. Новая эпоха начинается: я ее вижу, но Руссо ее предвидел <…> События следуют друг за другом, как волны взволнованного моря, и есть еще люди, которые считают, что революция уже кончена! Нет! нет! Мы еще увидим много удивительных вещей»543.
Беру на себя смелость утверждать, что на рубеже XIX и XX веков русское общество по своему характеру и содержанию переживало сходное с пережитым русскими людьми в 1789 – 1815 годах. Конечно, с той разницей, что переживаемое в 1790-е годы и в самом начале XIX века, до цикла наполеоновских войн, было как бы отражением того, что происходило в Западной Европе, тогда как на рубеже столетий и в XX веке Россия прожила свою революцию. Предощущение кризиса жизни, предчувствие грандиозных перемен переживалось, может быть, всего острее поэтами. До них в первую очередь доходили «подземные толчки» (любимое определение Ю.Н. Тынянова), предвещавшие общую перемену жизни.
Почему же это иногда неосознанное ощущение перемен проявилось в разных сферах русского искусства (изобразительного и словесного) как уход в прошлое, в старину, в древность? Даже в этом есть сходство между стремлением Шишкова в начале XIX века вернуть литературу русскую к допетровской словесной культуре и реставрационными установками Вячеслава Иванова.
Исследование смысла и причин воскрешения XVIII века в XX веке может помочь решить двуединую задачу – лучше понять XVIII век в его природе и сущности и проверить по восприятию людей XX века, что же было наиболее творчески плодотворным в начальной поре новой русской литературы.