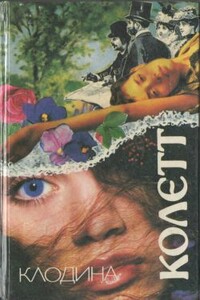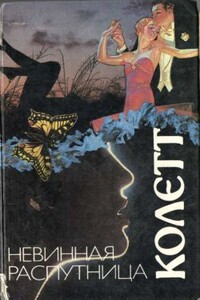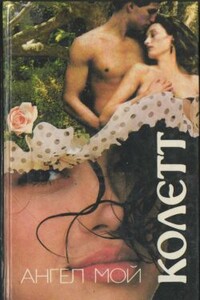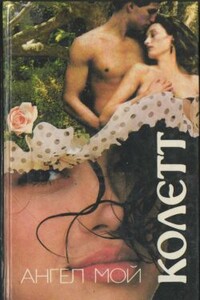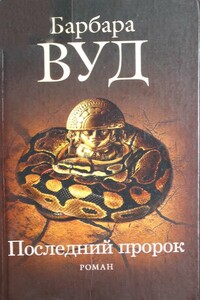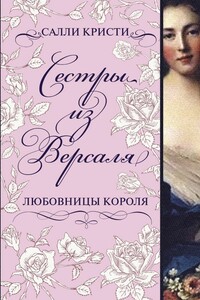Однако он понимал это прекрасно и потому сказал себе, что надо быть мягче; теперь он даже не без удовольствия смотрел на ласточек, которые то проносились, почти касаясь крыльями земли, то, со свистом рассекая воздух, круто взмывали ввысь.
В обнесённом белёной оградой дворе «Мирадор-отеля» в скором времени должны были расцвести арабские сады и экзотические цветы на глади водоёмов, пока же приходилось довольствоваться скромным патио[1] в жёлтых тонах: его широкие низкие своды являли взору в силу эффекта отражения всевозможные оттенки жёлтого. Один казался зеленоватым над пышным пучком дикого овса, другой, под которым цвели алые герани, был телесно-розовым, как мякоть недоспелого арбуза. От горшка с голубым крестовником ложился на жёлтую стену синеватый отсвет, словно лазурный мираж в пустыне. В душе Бернара Боннемена воскрес некогда убитый им самим художник.
«Какой свет… Почему бы не поддаться искушению – прожить долгую, неспешную жизнь… Здесь… Нет, где-нибудь ещё дальше… У меня была бы молоденькая наложница или две…» Устыдившись своих мыслей, он спохватился: «Или Роза. Но с Розой это невозможно, и вообще, с ней – дело другое…»
Запах аниса сильнее разжёг в нем желание выпить. Он повернул голову и увидел Бесье-старшего: тот что-то писал, сидя за одним из маленьких столиков.
– Ты здесь, Сирил! – крикнула Одетта. – Пари держу, ты только что спустился.
Но Боннемен уже заметил, что на столе стоят три высоких стакана, а рядом, на высоком столике, среди выжатых лимонов, рюмок и сифонов с содовой водой, валяются голубоватые листки, вырванные из блокнота Бесье. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы схватить сразу все эти детали, и в нём шевельнулась профессиональная ревность, такая же скорая на выводы, и куда более проницательная, чем ревность женская.
– Ошибаешься, – лаконично ответил Бесье. – Ну а вы как? Хорошо прогулялись? – Он на миг поднял на вновь прибывших свой взгляд стареющего красавца-блондина и опять склонился над бумагой. Не облысевший, но поблёкший, он вёл себя как покоритель сердец довоенных времен, любил одеваться в светлые, почти белые костюмы, искусно начёсывал на лоб серебристую прядь, моргал белёсыми ресницами и близоруко щурился с некоторой наигранностью.
«Он раздражает меня, как перезрелая кокетка, – думал Бернар. – В сущности, я ничего не имею против него, кроме того, что он деверь Розы…»
Привыкшие молчать, когда Бесье работал, обе женщины ждали, присев к столу и положив шляпки на колени. Роза, украдкой послав Бернару чуть просительную улыбку, вернула ему ощущение своей власти над нею. «Большая всё-таки редкость – блондинка, на сто процентов блондинка. Как это мило выражается Одетта? "В двадцать пять – румянец, в сорок пять – багрянец". Да, с возрастом проступят красные прожилки, но пока она восхитительна». Он не сводил глаз с Розы, следя за игрой карминных отсветов на её обнажённой шее, под подбородком, на нежно просвечивающих ноздрях, и ему безумно хотелось написать её такой. Она поняла его желание по-своему и потупила глаза.
– Я закончил, – сказал Бесье. – Сегодня же повезут почту в город… А вы пришли перекусить? Боннемен, у вас разочарованный вид. Посвежевший, но разочарованный. Прогулка того не стоила?
Он потирал кончиками пальцев свои выпуклые, чувствительные к свету глаза и машинально улыбался снисходительной улыбкой.
– Нет… Нет, стоила, – нерешительно произнес Бернар.
– Стоила, стоила, – подхватила Роза, – это просто чудо! А мы не видели и четверти всего! Вам надо было пойти с нами, Сирил. Какая там зелень! А апельсины! Я съела штук двадцать и могла бы ещё столько же!.. А цветы! С ума можно сойти!
Бернар удивлённо посмотрел на неё. Как не походила та Роза, которую он знал, его Роза, на эту хорошенькую болтливую мещаночку. Потом он вспомнил, что Роза, принадлежавшая клану братьев Бесье, и не могла быть иной: ей полагалось разыгрывать из себя маленькую девочку, краснеть по любому поводу и порой ляпать глупости, встречаемые добродушным и умилённым смехом. Он стиснул губы: «Ничего, это у тебя пройдёт, Роза, дай только срок…»