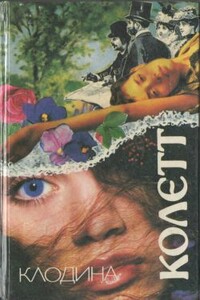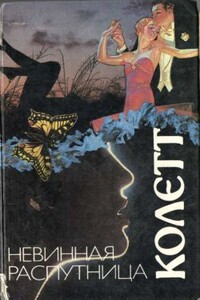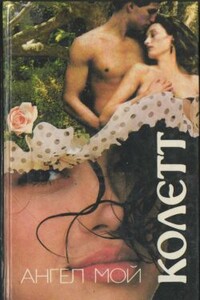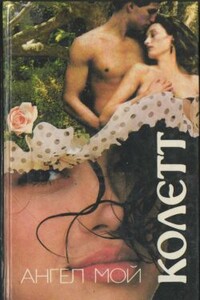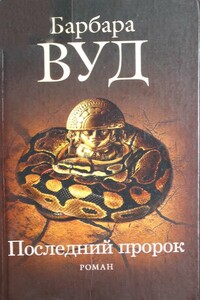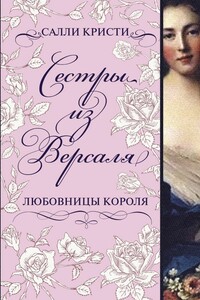Вторя свисту серых стрижей, которые, проносясь над новеньким фонтаном, успевали попить на лету, взмыли ввысь трепещущие звуки песни, прокатились в воздухе долгие ноты с интервалами в увеличенную секунду, и сжавшееся сердце Бернара Боннемена отпустило. «Мне хотелось бы жить бок о бок с ними, со здешними людьми. Правда, большинство их и не здешние вовсе…» Взгляд его вновь упал на Розу, он увидел её – встревоженную за него, розовую, растрёпанную. «Она-то расплатится за всех. Я не я буду, если сегодня вечером она не придёт ко мне. И тогда!.. А если её застукают, если нас застукают, что ж… что ж, не вижу в этом ничего страшного».
Несмотря ни на что, он поневоле восхищался тем, как держалась «туземка с островов Фиджи». При упоминании о «крупной сделке» она выдала свое любопытство и радость лишь короткой вспышкой алчного огня во взгляде. Теперь она расчёсывала свою челку; волосы блестели на солнце, отливая синевой, как у китаянки. «Все "как?", "сколько?", "скоро ли?" она приберегает на потом, когда останется с мужем наедине. На свой лад она славная бабёнка». Он повернулся к Розе, которая, следуя примеру подруги, пыталась распутать свои золотистые кудри и что-то тихонько напевала. «О! До этой-то пока дойдёт… Но что поделаешь, она создана только на потребу мужчине, и это восхитительно». Желание снова завладело им, и ему стало немного не по себе, но вместе с желанием вернулась дивная красота африканской весны, ощущение собственной силы, безоблачное настроение. Он вскочил на ноги с криком:
– За стол! За стол! Пора поесть, или я ни за что не отвечаю!
И, размахивая руками, бросился к лестнице. За его спиной раздались пронзительные крики, полные ужаса. Кричал толстый карапуз в феске; он понял и устыдился, увидев себя со стороны – бесноватый, да и только.
Через несколько минут четверо путешественников уже сидели за столом и уплетали огромных жилистых креветок, фаршированные артишоки и нежное мясо молодого барашка. Бесье-старший с розой в петлице тщательно пытался возобновить разговор о вилле и своей сделке.
– Боннемен, как вы думаете? Фархар не стал скрывать от меня, что паша, проведя одно лето в Довиле, просто влюбился в нормандские домики с их крестовыми балками. Нормандский коттедж в Танжере – нет, это уж слишком, это… Боннемен. мальчик мой, я к вам обращаюсь!
Боннемен с почтительностью, какая обычно за ним не водилась, смеялся ему в лицо, показывая все свои ровные белые зубы, чтобы произвести впечатление на Розу:
– Я слышу, дружище, всё слышу… Но, во-первых, я немного пьян от солнца, от здешних красот, от этого белого вина, такого густого, что язык прилипает к нёбу… А во-вторых, терпеть не могу вмешиваться в чужие дела… Вы этого не знали?
Бесье-старший приподнял светлые брови и ни с того ни с сего положил ладонь на рукав Розы:
– Нет, мой мальчик, понятия не имел… Роза, выудите-ка мне кубик льда из ведёрка. Спасибо. Уж лучше ваши пальчики, чем лапы этого испанца-официанта.
Он не спеша допил свой стакан, прежде чем добавить с подчёркнутой доброжелательностью:
– Мои дела не всегда будут «чужими» для вас, Бернар. По крайней мере, смею на это надеяться.
«Вот-вот вечно одни любезности и ничего конкретного, – думал Бернар. – Да он просто смеётся надо мной, а я ещё должен лебезить перед ним. Что бы такое ему сказать? Он, конечно, ждет изъявления благодарности…»
– Дорогой Сирил, я никогда не умел как следует выразить признательность, которая… Мне бы так хотелось именно вам доказать, что я стою того, прежде чем вы окажете мне доверие и официально…
При слове «официально» Бесье приподнял веки и на какой-то миг остановил на Бернаре пристальный взгляд блёкло-голубых глаз. Затем он улыбнулся, глядя в пространство, вынул из петлицы чайную розу и глубоко, неспешно вдохнул её аромат; бледный цветок и бледная ладонь заслонили от Бернара его лицо. Бернару ничего не оставалось, как довольствоваться этим уклончивым жестом, откровенное кокетство которого говорило: «всему своё время» или «само собой разумеется».
Одетта курила, скромно отведя глаза, и не позволяла себе ни двусмысленной улыбки, ни многозначительного взгляда. «Здорово он её вышколил, – подумалось Бернару. – Я вряд ли добьюсь такого результата с Розой. Разве что пинками в…» Он рассмеялся и снова стал тем Бернаром Боннеменом, которого сам всегда считал настоящим: крепким малым, вполне оптимистом, скрывающим за вспышками ярости врождённую робость и обуреваемым подчас желанием завладеть чужим добром, когда оно слишком близко лежит.