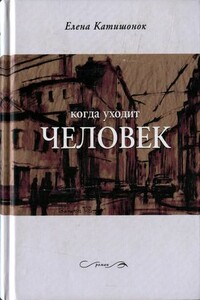Догнала у самых ворот. Женщина обернулась и оказалась Тоней, но Тоней такой бледной и исхудавшей со дня сороковин, когда они виделись в последний раз, что мало походила на себя прежнюю.
Здесь, за воротами кладбища, светил уличный фонарь. Домики по обе стороны были по большей части деревянные, редко двухэтажные, только в конце улицы нелепо высился каменный дом этажей на пять.
Тоня кивнула, поблагодарив, и бережно спрятала платок в сумку.
– Федора Федоровича платок, Царствие ему Небесное.
И медленно перекрестилась под громкое Ларисино «как?!», после чего рассказала, «как». Говорила коротко и суховато, чтобы – Лариса понимала – не разрыдаться, но все равно голос временами срывался и стал прежним Тониным голосом, только когда она властно перебила виноватое Ларисино бормотание, что «не знала, а то бы, конечно…»
– Не знала, конечно; откуда тебе знать было? В газетах не объявляли.
Замолчала. Лариса прикусила губу: зачем она про газеты – не потому ведь, что о Германе писали, что некролог был?
– Мы так живем, что никому ни до кого дела нет, – продолжала Тоня. – Кто слег, кто помирает, кто… – голос перехватило, – кого больше… кого схоронили. И телефоны есть, да что толку?..
Не договорила, да и не было в этом нужды, все уже сказала. Пока Лариса думала, когда будет уместно отвлечь, спросить о детях, собеседница ее опередила:
– Как твой сын, не женился еще?
Благосклонно выслушала ответ, спросила о свадьбе и тоже осталась довольна, сделав к тому же непререкаемый вывод: какая же свадьба могла быть, если недавно были похороны.
В конце квартала Лариса приготовилась попрощаться, но Тоня снова опередила:
– Зайдем ко мне чаю попить, тут совсем близко.
Пришлось согласиться. Не потому что «совсем близко», а все еще чувствуя вину, что не пришла тогда – ни на похороны, ни после.
Узнала дом – он не изменился. На первом этаже были, как и перед войной, аптека и пекарня. Вернее, тогда-то как раз была пекарня, а теперь обыкновенный хлебный магазин, каких в городе достаточно, и ни один не является пекарней: велят завтра продавать ботинки – начнут продавать, только вывеску «ХЛЕБ» заменят на «ОБУВЬ».
– У нас пекарня хорошая, – похвасталась Тоня, – то вафли, то сухарики ванильные дают.
Наверху, в квартире, стояла тишина. Свет в прихожей был тусклым, словно в тамбуре. В столовой что-то изменилось, да и не мудрено за столько лет.
– Вы с Германом к нам редко заходили.
Тоня доставала из буфета посуду.
Действительно, согласилась мысленно Лариса, всего раз или два заходили. Над буфетом висела большая картина маслом, которую она не помнила: грозное море, огромная надвигающаяся волна – и крохотный плот с обломком мачты и мечущимися людьми, которых вот-вот этой волной накроет.
Хозяйка, хоть и стояла спиной, горделиво кивнула на картину:
– Один пациент Федору Федоровичу подарил. Художник.
На столе между тем появился благородного фарфора чайник, в тугом блестящем чреве которого набухала плотная стая чаинок, готовая пролиться темной медовой струей в такие же благородные, как и чайник, чашки. На блюдца послушно легли серебряные ложечки, а посреди стола красовалась ваза из той же фарфоровой семьи, полная домашнего печенья, даже на глаз рассыпчатого. Изысканный сервиз, в большинстве домов предназначенный специально для гостей, когда хозяйка достает спящие летаргическим сном чашки и поспешно бежит на кухню их перемывать, Тоня расставила быстро и привычно, так что стало ясно: пьют из этих чашек часто, а то и каждый день.
– Бери сахар, – Тоня отхлебнула глоток и первая потянулась к подбоченившейся сахарнице. – Мои родители, Царствие им Небесное, только с кусковым пили. Ну а я отвыкла уже.
Лариса плохо помнила Тониных родителей и чувствовала какую-то неловкость из-за нарядного стола с крахмальными белейшими салфетками и дорогим сервизом, но не попробовать печенье было нельзя. Оно и впрямь оказалось рассыпчатым, таяло во рту, и за признание этих достоинств Ларисе тут же был подробно изложен рецепт. Она кивала, но знала, что не запомнит. Рассказала о болезни матери и получила несколько советов («вот у меня однажды так схватило…»).