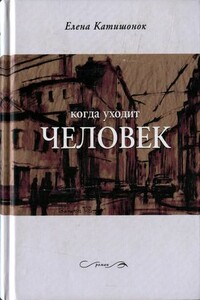Они шли, оставляя на снегу две цепочки следов, и молчали, не замечая, что мысли их не встречаются в этом молчании, как узкие женские отпечатки подошв ведут свой ровный шов и не пересекают широкие мужские следы, не столь ровные и отчетливые.
Мысли у Карла были примерно такими же, как его следы. Сам того не сознавая, он чего-то ждал от сегодняшнего дня, словно что-то должно было измениться, если вообще в цифре «40» содержится какая-то знаковость. Черная папка, которую снова открыл накануне, ответа не давала, как и фотография девушки с растрепанной прической. Он улыбнулся ей, как давней знакомой, и бережно отложил в сторону. Конечно, ее нет в живых, иначе она пришла бы на похороны. Или сегодня. Карлушка видел это так отчетливо, что замирал при каждом звонке в дверь, и вовсе не удивился бы, увидев ее в дверном проеме. Так бы и появилась: чуть взвихренные волосы, летнее платье и голова, склоненная набок.
Идиот, осаживал он сам себя, какое летнее платье – ноябрь кончается… Да при чем тут платье, при чем ноябрь; сколько ей лет сейчас, как ты думаешь? То-то и оно; ровесница отца. Или матери. Сколько ей лет сейчас было бы?..
Нисколько. Сколько угодно. Столько же, сколько на фотографии: мертвые не стареют.
А если жива?..
Тогда пришла бы. Для них, пожилых – ведь она пожилая, – все эти дни: девятый, сороковой – что-то значат; обязательно бы пришла. А на похоронах… Может, она и приходила, но тогда он еще не видел фотографии, не знал, кто она; она могла стоять где-то в стороне, под дождем, и никто ее не узнал, потому что узнать мог только один человек: отец. Карлушка напряженно вспоминал, кто стоял вокруг могилы, но не было ни одного лица, хоть как-то напоминавшего фотографию.
И сегодня не было – он бросался к двери, распахивал ее и… с трудом подавлял разочарование. Приход Насти удивил настолько (она сказала, что будет готовиться к сессии), что он глупо спросил: «Ты?» и тут же бросился отряхивать снег с ее пальто, чтобы скрыть свое удивление.
Его раздражали все: громкая, авторитетная Тоня с золотой брошкой на платье, раздражала Анна Яновна, с готовностью подхватывавшая каждое Тонино слово, раздражал дед со своей старомодной галантностью, с этими поцелуями рук, и бабка, откровенно пялившаяся на Настю; раздражала даже Настя, уверенно хозяйничавшая за столом и на кухне… Только мать не вызывала раздражения – одну только рвущую сердце жалость. Мама, мама, беззвучно кричал он, зачем они все пришли сюда, мама?.. Несколько раз во время застолья он пытался заговорить об отце, поняв, что больше никто не собирается этого делать, и видел с горечью, как лица на минуту-другую становились виноватыми, словно всех застали врасплох за чем-то запретным, но потом опять все шло по-прежнему.
Обыкновенная пьянка, думал Карл. Они готовы песни петь, потому что собрались сами не знают зачем; обыкновенная пьянка, – и веселое, бесшабашное слово «пьянка» растравляло душу еще сильнее.
Он знал, что, проводив Настю, вернется и откроет черную папку. Рассказывать о ней больше не хотелось. Да и почему, в самом деле, Настю должны интересовать старые местные газеты? Ни о найденных фотографиях и письмах, ни тем более о мячике он не говорил – и теперь уже не скажет.
О приближающихся курсах он не только не забыл – думал чаще, чем хотелось, потому что совсем не представлял, как оставить мать одну. Не Тоне же она будет звонить вечерами, когда особенно тоскливо и тягостно одной в пустой квартире. А кому?.. Как-то нужно было обдумать разговор с начальником отдела: пускай кого-нибудь другого посылают; черт с ними, с курсами.
Было довольно поздно, но завтра предстояло воскресенье, и большинство окон общежития ярко горели.
– Уже поздно, – озабоченно сказала Настя, – я тебя наверх не приглашаю.
– Поздно, – согласился Карлушка, словно это когда-то было препятствием – препятствием могла быть только дежурная, и то не всякая; но сегодня он почти торопился уйти. – Я позвоню, ладно?
Настя почти выдернула свою руку и не оглядываясь взбежала по лестнице.