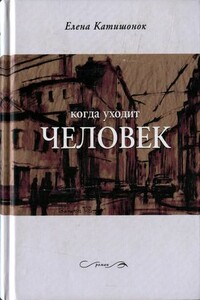…А тут как раз вниз по лестнице идет господин Гортынский. «Здравствуйте, господин Стейнхернгляссер (выговаривает, между прочим, одним духом), с благополучным возвращением вас! Как прошла экспедиция?» – «Благодарю вас, господин Гортынский; весьма успешно. А как вы поживаете, позвольте спросить?»
Действительно, как поживает Гортынский? Обыкновенно он молчалив и рассеян – его мысли не здесь, он всегда поглощен новой идеей и доверяет… нет: поверяет ее только чистому листу бумаги, оставшись наедине с собой. Он сбрасывает сюртук, зажигает свечу… М-м-м… тогда уже было электричество; значит, включает канделяб… Нет, не так: зажигает настольную лампу, вот. Бронзовую. Изящная, но сильная рука его тянется к карандашу, и на бумагу ложатся легкие уверенные штрихи, рука движется все быстрее, и вот из-под карандаша выходят контуры дворца. Стрельчатые башни устремляются в небо, каждую башню украшает статуя рыцаря с мечом. Карандаш скользит вниз и очерчивает (безо всякого лекала) высокую арку входа, у которого…
– Ну? – нетерпеливо спросила Томка.
– Что «ну»?
– Дальше что?
Пришлось сознаться, что дальше она пока не придумала.
– Ай, ну это нечестно, – надулась Томка. – Потому что ты сама все время путаешься и не даешь дослушать. Слышь, а этот Стерхрен… ну который в тропиках был, он симпатичный хотя бы?
Пока Олька думала, Томка неожиданно предложила:
– А ты придумай до конца и отошли в «Пионерскую правду». Как будто все это тимуровцы разузнали… А?
– Почему тимуровцы?
– Потому что в «Пионерской правде» только при тимуровцев пишут, – резонно пояснила Томка. – Или про героев.
К «Пионерской правде», с ее бодрыми тимуровцами, обе относились, примерно как к «Пионерской зорьке», поэтому идея завяла. Тем более что Томка быстро забыла про начатый сюжет, как забыла и обе фамилии: для нее они были еще более чужими, чем для Ольки. Да Олька и сама почти потеряла интерес к придумыванию чужих жизней, но изредка он нет-нет да и снова вспыхивал.
В отличие от доски, на которой ничего не менялось, в жизни господина Стейнхернгляссера наметился резкий поворот. Никакого путешественника с горькой складкой у губ больше не было – господин Стейнхернгляссер оказался банковским чиновником из обрусевших немцев: пузатым, но подвижным, со складчатым затылком и толстыми пальцами. Дома его встречала госпожа Стейнхернгляссер, востроносая и веснушчатая, с широкими бедрами, но в новом платье. Платье только что принесли от… модистки, потому что платье по самой последней моде. За обедом она вздыхала и спрашивала, когда же они поедут в Ниццу. Муж озабоченно крутил головой: не знаю, ма шер; право, не знаю. Стейнхернгляссерша (как ее звали, не Аделаида ли?..) прижимала салфетку к лицу и отодвигала нетронутый обед (в общем-то правильно – и так бедра широкие, но она не потому). Шла в спальню торопливыми шагами, бросалась на кровать, и ее тело сотрясали бурные рыданья. Муж входил на цыпочках: «Адель, прошу тебя…», но она, конечно, отказывалась с ним говорить: «Ах, оставьте меня, оставьте!». Он «оставлял» и… что делал господин Стейнхернгляссер? В столовую возвращался, вот что. Доедать седло барашка, например, хотя такое блюдо было очень трудно представить; пусть лучше курицу ест. Целую зажаренную курицу на блюде, которую подавал преданный дворецкий, понимающе глядя на хозяина. Нет, дворецкий в Англии; пусть подает горничная. Опустив глаза. Но Стейнхернгляссер на нее не смотрит, потому что думает о своей содержанке Мими. У нее пухлый чувственный рот, родинка на щеке и никаких нравственных принципов. Она тоже хочет в Ниццу (или в Париж? – пожалуй, в Париж), и бедолага Стейнхернгляссер разрывается между долгом и страстью. Он называет Мими «мой котеночек».
С Гортынским было сложнее. Внешне он оставался прежним: смуглым пышноволосым человеком лет тридцати, молчаливым и застенчивым (в этом месте Ольке вспомнился тот, с рукописью «Вагонъ»). На высоком лбу у Гортынского шрам (нужно было объяснить, откуда он взялся, – у «вагона» никакого шрама не было; но это пустяки). Самое трудное было придумать для него занятие – не делать же человека с такой фамилией врачом или учителем, в самом деле. Олька попеременно то превращала его в художника, то отправляла, вконец обнищавшего, на Клондайк, но последнее практически не помогло, потому что, напав на золотую жилу, он, вместо того чтобы промывать песок и просеивать драгоценные крупинки, стоит, скрестив руки на груди, и любуется закатом. В это время неслышно подкрадывается его напарник и коварно завладевает добычей. Господин Гортынский не может смириться с таким подлым предательством. Завязывается драка. Но силы не равны, и злодей едва не приканчивает его ударом камня (вот! вот откуда берется шрам на лбу). Гортынский без чувств падает прямо в золотоносный ручей, а когда очну… очне… очухивается… В общем, когда приходит в себя, то стоит глубокая ночь. Он подбирает камень со следами крови, чтобы сохранить его на память, и после долгих мытарств возвращается сюда, в квартиру № 5. Отмывая злополучный камень от песка и засохшей крови, он обращает внимание на не совсем обычный его цвет, вглядывается пристальней… Сомнений нет – это золотой самородок!