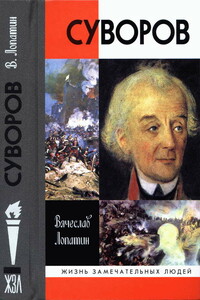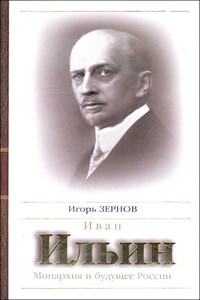Суворов скакал в Москву, не подозревая о той борьбе, которая развернулась вокруг его назначения. 25 августа Панин донес Екатерине о приезде Суворова в одном кафтане, на открытой почтовой телеге. Суворов своим приездом доказывает «давно уже известную его ревность и великую охоту к службе», — ответила императрица и послала ревностному слуге Отечества 2 тысячи червонцев на «устроение экипажа». К этому времени Суворов был уже в Царицыне. По дороге он видел, в какое разорение пришел край, испытавший ужасы истребительной гражданской войны. Восставшие поголовно уничтожали нe только помещиков с их женами, детьми и родственниками, но, как правило, убивали и слуг и дворовых людей.
3 сентября Суворов донес из Царицына Панину о том, что он принял меры, чтобы «его (Пугачева.— В. Л.) истребить или же заключить от всех мест в такой зев, которого бы не мог миновать». Но он прискакал уже после того, как Михельсон нанес Пугачеву смертельный удар. 25 августа в 105 верстах ниже Царицына 15-тысячная толпа повстанцев под предводительством самого Пугачева была разгромлена. Спаслось около тысячи человек. Они были настигнуты при переправе через Волгу и рассеяны. Пугачев бежал на левый берег, С ним было всего сто пятьдесят человек, в основном казаки, его личная гвардия.
Суворов знал Михельсона как боевого офицера еще по конфедератской войне. Двенадцать лет спустя в своей автобиографии он прямо напишет о том, что «ежели бы все были, как гг. Михельсон и Гагрин, разнеслось бы давно все, как метеор». А в 1774 г., забрав у Михельсона его кавалеристов и оставив ему одну пехоту, Суворов отдал распоряжения о прикрытии возможных направлений бегства Пугачева и устремился в заволжские степи, в погоню, «Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь»,— писал он 10 сентября гвардии поручику Г. Р. Державину, командиру одного из отрядов, действовавших в Поволжье. Суворов шел к Узеням. От пленных он знал, что Пугачев там. В автобиографии 1790 г. он вспоминал: «Среди большого Узеня я тотчас разделил партии, чтоб его ловить, но известился, что его уральцы, усмотря сближения наши, от страху его связали и бросились с ним на моем челе, стремглав в Уральск (Яицкий городок.— В.Л.), куда я в те же сутки прибыл. Чего ж ради они его прежде не связали, почто не отдали мне, то я был им неприятель и весь разумный свет скажет, что в Уральске уральцы имели больше приятелей».
Стремительное преследование Суворовым Пугачева ускорило развязку на несколько дней. Сообщники Пугачева Иван Творогов и Федор Чумаков уже в первую ночь бегства за Волгу «возобновили... намерение связать злодея». Они привлекли к заговору других, постепенно устранив личных телохранителей своего предводителя. Когда Пугачев был схвачен, атаманы собрали казачий круг — общую сходку. И круг высказался за арест. Из 186 человек только 32 не одобрили ареста, но лишь один высказался против.
«Как-то кончитца? Однако призываю Бога! Беру смелость, поздравляю Ваше Высокографское Сиятельство! Рука дрожит от радости. На походе 60 верст от Яицкого городка. Спешу туда»,— писал 15 сентября Панину Суворов, узнав от яицкого коменданта И. Д. Симонова о том, что Пугачев арестован и находится в крепости.
Суворов оказался первым из старших начальников, кто прискакал в Яицкий городок. К этому времени гвардии капитан-поручик С. И. Маврин уже допросил самозванца и добросовестно записал его показания. «Описать того невозможно, сколь злодей бодрого духа»,— отмечает Маврин по горячим следам. И тут же следует поразительное признание смелого мятежника: «Дальнего намерения, чтоб завладеть всем Российским царством, не имел, ибо рассуждая о себе, не думал к правлению быть, по неумению грамоте, способным» [13]. Это признание красноречивее всех домыслов советских историков, идеализировавших крестьянскую войну и ее перспективы. Победа неграмотного народного царя при поголовном истреблении дворянства, имевшего за собой не только власть, но и знания, опыт управления, культуру, — могла означать только чудовищные жертвы среди народа и крах государства. При всей справедливости народного возмущения против крепостнических порядков, против мздоимства администрации (об этом честно писали и Бибиков, и Маврин, и Державин), беспощадная, ведшаяся со страшной жестокостью гражданская воина действительно была «политической чумой». «Не дай Бог,— писал один из лучших историков пугачевщины Пушкин,— не дай Бог, увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». У Суворова, одного из просвещеннейших людей своего времени, не было колебаний относительно того, как поступать в те тревожные дни. Однако он счел необходимым отметить некоторые обстоятельства своей деятельности в период пугачевщины. «Сумазбродные толпы везде шатались; на дороге множество от них тирански умерщвленных,— вспоминал он в 1790 г. — И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя. Сам не чинил нигде, ниже чинить повелевал ни малейшей казни, но усмирял человеколюбивою ласковостию, обещанием Высочайшего Императорского милосердия»