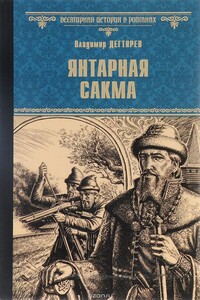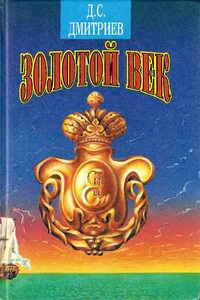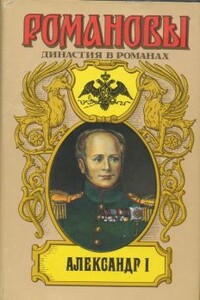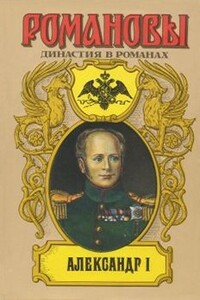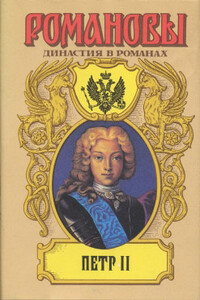— Ну, ну, продолжай, что же дальше было.
— Вот, как ответил я ему то же, что и Колонтаю, он отошел от меня и снова сел на могилу, я же под видом того, что осматриваю склеп, начал прохаживаться и выбрал себе такое местечко, откуда меня трудно было бы видеть, но чтобы я мог видеть и слышать других. Не знаю, сколько времени я просидел на корточках, прижавшись за маленькой плитою, но показалось мне очень долго. Только вижу, склеп мало-помалу наполнился людьми. И страшно мне стало, крестная, ну что, думаю себе, как Колонтай считал проходивших, да и оказалось, что по счету одним больше, чем следует, пропал я тогда. Собрались все и расселись на могильных плитах, смотрю, Колонтай начал считать… У меня сердце и оборвалось, пропал, думаю, начнут искать, отыщут, Колонтай и Килинский пощады не дадут, не такие люди. Наконец, Колонтай сосчитал и вздохнул. «Наконец-то сегодня все в сборе», — сказал он, и у меня на душе отлегло, сразу повеселел. Осел ты, осел, думаю себе, все в сборе… Еще раз вздохнул каноник, перекрестился и снял маску. «Мне она не нужна, — сказал он, — мне нечего бояться и не от кого скрывать своей любви к родине. Панове, час настал. Пан Фаддей Костюшко все медлил, а между тем к схизматикам, как я узнал из верных источников, идут из Петербурга новые войска… (Из верных источников, крестная, это из моего-то вранья…) Когда в Варшаве будет тридцать — сорок тыс. русских войск, действовать тогда будет трудно. Нужно действовать теперь же… Выслушайте, что скажет пан генерал Мадалинский, говорите, пан генерал…» Мадалинский встал с могилы, снял с себя маску и начал: «Мне она тоже не нужна. Слушайте, панове, я до сих пор не распустил своей бригады, не сдал оружия Игельстрему, как другие», — продолжал самодовольно генерал, покручивая усы, но продолжать дальше он не мог, в подземелье послышался сперва ропот, а потом страшный гам. Кто-то назвал Мадалинского хвастунишкой, другие нахалом, и пошла перебранка… То бранились обиженные Мадалинским генералы. «Перестаньте, Панове, ссориться, теперь не до того. Пан Мадалинский оговорился, а панам генералам обижаться нечего. Иначе поступить они не могли, они сделали разумно, распустив свои бригады и сдав оружие русским. Все это до поры до времени. Продолжайте же, пан Мадалинский. — «Прошу меня извинить, Панове, я никого не хотел обидеть. Итак, моя бригада в сборе. На рассвете я с нею выступаю к Кракову, по дороге соединюсь с другими, не распущенными еще нашими полками и ударю по русским. Это заставит пана Костюшко поспешить к нам, и тогда мы объявим русским, пруссакам и австрийцам форменную войну, а вы, Панове, действуете уже в Варшаве».
Мадалинский замолчал, начал говорить Колонтай.
«Панове, как только прибудет в Краков пан Фаддей, Варшава должна подняться. Килинский, — обратился он к башмачнику, — у тебя все готово?» — «Все, пани ксенже, хоть сейчас». — «Видите ли, Панове, Килинский говорить… на ветер на будет, простой народ у него готов. По его сигналу на русских нападут и перережут. Нам же нужно ему помочь… Народный ржонд рассчитывает на вас, граф Олинский, и на вашего сына». — «Я в полном распоряжении отечества», — отвечал граф. «Ваш сын, граф Казимир хорошо принят в доме генерала Воропанова, его там все любят… Он попросит руки дочери генерала, ему не откажут…»
«Просить руки дочери и ковать козни ее родителям! Никогда!» — вспылил граф Казимир, вскакивая с надгробной плиты. «Молчи, пан, ты еще молод. Слушайся своего духовного отца и родителей, — продолжал Колонтай. — Итак, граф Казимир сделает предложение и получит согласие, у вас, пан грабя, будет обручение… можете даже позвать схизматического попа, пригласите к себе всех офицеров и генералов, а солдатам пошлите в угощение несколько бочек водки и меду, да прикажите побольше подсыпать в них дурману… Когда солдаты перепьются, а перепьются они скоро, дурман хоть кого с ног свалит, Килинский сделает свое дело, а пан генерал Зайончек, будущий комендант Варшавы, арестует всех генералов и невесту с ее родителями».
«Дельно, дельно, умно, славно», — послышалось со всех сторон.