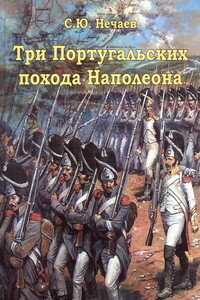Обогнув машину, Комаров невольно остановился. У заднего колеса, прислонившись к покрышке, сидел на чемодане тот самый большелицый человек, которого он видел в Ленинграде у Галины. Букалов сидел в укрытом месте, тепло и добротно одетый, и курил папиросу. Как видно, он ночью забрался под брезент и спокойно ехал в чужой машине.
Комаров даже растерялся — до того дерзким и неожиданным было появление здесь постороннего человека. Спохватившись, он быстро приблизился к большелицему и тронул его за рукав.
— Что вы здесь делаете? — спросил он резко.
Букалов погасил о колено папиросу, встал, не торопясь отстранил руку.
— Починили, выходит, военный? — спросил он вместо ответа. Большое лицо его назойливо белело под темной шапкой.
— Документы? — дрожа от холода и возмущения, сказал Комаров.
Большелицый, все так же неспеша, достал из-за пазухи бумажник, вынул удостоверение. В нем говорилось о том, что заведующий снабжением Букалов Г. В. командируется по специальному заданию в Старую Ладогу. Стояли печать и штамп одного из учреждений города.
— Вон! — сказал вдруг Комаров тихо. — Сейчас же!.. А то застрелю, как собаку… — Он швырнул бумажку и, сдерживая себя, с силой засунул руки в карманы.
Букалов понял, что Комаров выполнит свою угрозу. Он молча подобрал вспорхнувшую на ветру бумагу, отошел в сторону.
Так он стоял на льду, угрюмый, хромой, глядя, как уходят вдаль машины, пока не остался один со своим чемоданом.
Три дня шел бой за маленькую лесную станцию на восточной стороне озера. Снаряды рвались у самой насыпи. Изредка они попадали в штабеля ящиков или мешков, и тогда консервные банки далеко катились по мерзлой земле, медленно оседала мучная пыль. Все пути были забиты вагонами, гружеными и порожними, и в эти вагоны и на платформы бойцы торопились подать остающееся продовольствие и боеприпасы. Враг стремился вперед, стараясь перерезать последнюю магистраль, ведшую к Ладожскому озеру из центра страны.
Временами шел снег. Но редкие сухие крупинки пропадали в лесу и между вагонами, и зимняя нагота деревьев и земли оставалась попрежнему темной.
Рахимбеков не уходил с насыпи. Худой и черный, словно он находился в туркменских песках, а не на ветру и холоде приладожской станции, он уже третьи сутки не показывался у себя в блиндажике. Подобрав вчера банку консервов, распоротую осколком, он съел содержимое, потом где-то напился воды. Он пробирался от штабеля к штабелю, низенький, в вымазанном полушубке, лез на платформы, когда кто-нибудь из бойцов сдавал, и говорил:
— Второй раз отдыхаешь, Мавродин. Доложи командиру взвода.
А когда однажды измученный, обозленный красноармеец выставил ему почти голую, еле прикрытую лохмотьями ватника спину, Рахимбеков указал на такую же спину другого бойца. И, пока не кончили погрузку этой платформы, не отошел от нее ни на минуту.
Триста бойцов — триста характеров, желаний и чувств — все эти дни, пожалуй, не различались лишь в одном: они искренно ругали своего командира, и Рахимбеков знал об этом. Знал и еще больше увеличивал темп работы. Словно ничего не замечал. Только длинный нос его заострился, воротник гимнастерки стал непомерно широким, казался чужим, полушубок обвис, опустились плечи. Он знал, что лишь нечеловеческое усилие помогало роте держаться. Сдать темп на полчаса — и все триста человек перестанут быть силой. Впрочем, не триста. Только что снарядом убило еще троих. Шестнадцать человек за один день.
Подошел политрук роты.
— Рахимбеков… Бьет из Красного Шума минометами… Люди никогда не грузили. Плечи и спины разбиты. На руках несут, падают…
Пожилой высокий политрук смотрел сверху вниз, моргал веками. На отросшие усы падали снежинки и не таяли.
— Успеешь, Асаф?.. — спросил он тихо.
— Выставить боевое охранение… — сказал Рахимбеков. — Понимаешь?
И, больше не добавив ни слова, почерневший, маленький, отошел к вагонам.
Немцы заняли Красный Шум. На карте это совсем рядом. Он ясно видел зеленоватый лист, испещренный квадратами, точками, цифрами высот и названиями. На карте все вымеряно, все понятно. Только нет на ней пушек, минометов, нет сотен убитых людей…
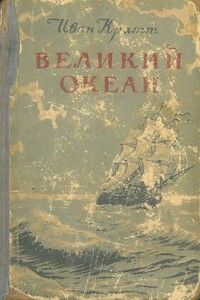

![Мы снова уходим в бой… [Рассказы писателей Вьетнама]](/uploads/books/images/5a/5a62a203b13a98ebd37930a1d000a24a3faf28f3.jpg)