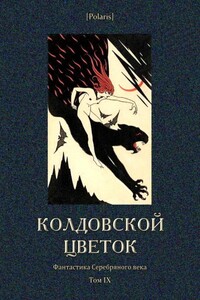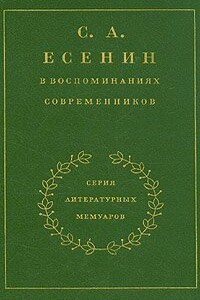«ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА»
И «ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ»
НАХОДЯСЬ в процессе работы над «Боярыней Морозовой», Суриков уже замышлял ряд других произведений. Суриков мог выбирать тему, отстранять ее из множества других. Параллельная духовная работа, а часто и технологическая, не смешиваясь, не сбивали с толку одна другую.
«Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова» жили одновременно в душе художника. В том же логическом цикле находился замысел «Стеньки Разина». В разгар работы над «Боярыней Морозовой» Суриков уже делает набросок будущей композиции, посвященной народному герою.
Не случись рокового события, назревавшего давно в семейной жизни художника, события, резко и больно — нарушившего закономерное развитие дарования — мастера, всего вероятнее, через два-три года появился бы «Стенька Разин», а не 20 лет спустя, как случилось.
Почти наверно можно сказать, что подъем духа, вызванный в Сурикове после «Боярыни Морозовой», встретившей высокое общественное признание, послужил бы плодотворным разбегом к еще сильнейшим удачам в дальнейшем, к осуществлению «Стеньки Разина» более ярко и убедительно, чем это произошло на самом деле.
Промежуток от времени окончания «Боярыни Морозовой» до появления «Стеньки Разина», хотя он и отмечен созданием «Покорения Сибири», все же полон душевных метаний, печали, боли от незажи-ваемого удара, Суриков выбит из правильной и счастливой жизненной колеи, чувствуется в нем надрыв, утраченное мудрое спокойствие. Страстная неукротимая натура пережила подлинное душевное потрясение. Рана была особенно чувствительна при тех безоблачных перспективах, которые открывались перед художником после достигнутых успехов.
Жена Василия Ивановича, Елизавета Августовна, давно болела. В год окончания «Боярыни Морозовой» она слегла и 8-го апреля 1888 года скончалась. Глубокая любовь связывала художника с женой, и потеря самого близкого человека произвела огромное впечатление на Сурикова.
В необузданном порыве, в каком-то бессильном протесте против слепого случая, разрушившего, ему казалось, навсегда его налаженную и счастливую жизнь, в ярости и ненависти к Москве, ко всему, напоминавшему о невозвратном прошлом, Суриков сжег обстановку своей квартиры, книги, мебель, разные вещи, уничтожил ряд этюдов, взял детей и кинулся на родину, в Красноярск, в свой старый отцовский дом, к матери.
Художник как будто перестал существовать. Он забросил всякую работу. Люди воспользовались невменяемым состоянием художника, его небрежностью к своим кровным делам, полнейшему равнодушию к ним: в то время было расхищено немало суриковских этюдов.
Состояние уныния и угнетения, казалось, совсем смяло художника. Ища выхода и успокоения, он проникся религиозными настроениями, не расставался с библией, с разнообразными «священными книгами». Всего вероятнее, что этот выход был подсказан ему окружающими близкими людьми, просто и по-старинке находившими выход печалям и скорбям в религиозном тумане.
Сознание Сурикова затемнилось. Почти два года, покуда художник оставался в Красноярске, он находился в тенетах этого «навождения».
На переплете альбома сибирских рисунков 1887–1890 годов Суриков записал одно из своих раздумий. В нем отражен полный и беспросветный «мрак сознания». «В вере христовой все предусмотрено, — говорит больной человек, — ничего без ответа не оставлено. Чего же искать в так называемой философии. Вера есть дар, талант; не имеющего этого дара — трудно научить. Вера есть высший из всех даров земных. Никакой изобретательный гений земли не сравнится с ним. Кротость есть бич, и раны, нанесенные этим бичом, никогда не заживают. Любовь сильнее смерти».
Под влиянием религиозного помутнения Суриков опять обратился к живописи, только в несвойственном ему жанре.
По собственному признанию, художник в 1889 году «лично для себя» написал картину «Христос, исцеляющий слепого». Когда через несколько лет душевная буря начала утихать, Суриков в значительной мере уже излечился от временных удушливых религиозных настроений, он нарушил свой «завет» относительно этой вещи и выставил ее на очередной передвижной выставке 1893 года.