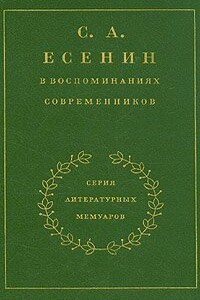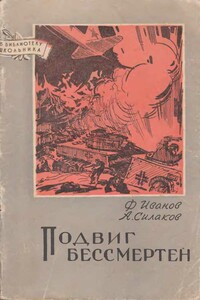Преклонение перед Микель-Анджело, заставившим Сурикова даже вздохнуть о беспомощности колорита в сравнении его с совершенством «моготы» пластических форм, видимо, было довольно мимолетно, объяснялось известной пристрастностью какой-то минуты настроения. И Суриков снова поверил в неменьшие возможности живописи наравне со скульптурой. Ощущение увиденного «бесподобного колорита» как бы сопровождает все итальянское путешествие художника.
В другом, более раннем письме П. П. Чистякову, написанном из Парижа, но затерявшемся в дорожных вещах и отправленном вместе с вышеприведенным письмом из Вены, Суриков несколько раз возвращается к вопросу о колорите. Здесь он выражается о колорите совершенно определенно, не испытывая никаких сомнений, что колорит, это — все.
Кстати, это замечательное парижское письмо, купленное Государственной Третьяковской галлереей у родственников П. П. Чистякова и ныне подготовляемое к опубликованию в одном из художественных сборников галлереи, дает богатейший материал о настроениях и впечатлениях Сурикова, вызванных пребыванием в Париже. Художник с большим возбуждением, близким к восхищению, называет имена мастеров — художников Франции: Бастьен Лепажа, Мейсонье, Коро, Жерома, Делакруа. Василий Иванович сравнивает тогдашнюю самодержавную Россию с буржуазной французской республикой и откровенно высказывается в пользу Франции. Художнику кажется, что в сравнении с дикими и варварскими условиями, в которых работают русские художники, французские собратья их представляются ему даже работающими «в условиях абсолютной свободы».
Отсюда он делает вывод о неизбежной высоте художественной культуры Франции, где искусством интересуются не отдельные малочисленные группочки людей, как в России, а значительные слои парижского населения. Суриков приходит в такой восторг от архитектуры Notre Dame, в особенности от органа в храме, что шутливо вспоминает древнерусскую летопись о крещении Руси.
Василий Иванович находит, что, окажись послы Владимира Святого раньше не в Византии, а в Париже, быть бы Руси не православной, а католической.
В Москву Суриков возвратился преображенным и обогащенным нужным опытом, еще ярче и зорче научился видеть мир со всем его бесконечным красочным и пластическим разнообразием, силы художника возросли, он почувствовал их как будто заново.
На передвижной выставке 1885 года появился большой суриковский этюд итальянки в розовом домино. Это — некоторое отражение итальянского путешествия. Суриков выхватил кусок из римского карнавала. Красивая смуглая итальянка обнажила сверкающие зубы, в правой руке она вознесла к плечу букет цветов, левой она плутовато касается капюшона, она заинтересованно и кокетливо всматривается с высоты в весело текущую по улице празднично-пеструю толпу.
Этот свежий и оригинальный этюд (вся вещь называется «Римский карнавал») как-то выпадает из множества почти современных ему этюдов к «Боярыне Морозовой». Он для Сурикова нов и по самому сюжету и по манере исполнения. Среди пасмурных зловеще и экстатически напряженных лиц и фигур в этюдах к «Боярыне Морозовой» беззаботность и острая усмешка этюда из «Римского карнавала» весьма выдается и могла казаться случайностью.
Но, конечно, это не так. Этюд итальянки в некотором роде указывает на будущие отдаленные колористические поиски художника, за которыми его застанет смерть. Кроме того новизна этюда является предсказанием дальнейшего развития русской школы живописи. Через десятки лет русский художественный молодняк подхватит оброненные с суриковской палитры «случайные» капли и разовьет их в целые красочные веера.
Угадывание исторической перспективы дело страшно трудное. Чаще всего художник-новатор остается в одиночестве. Так было и с этюдом итальянки. Глава передвижнической школы художник Крамской обнаружил не только полнейшую слепоту в оценке этюда, но даже отыскал в манере изображения заимствование у Репина.
Картина «была бы, может быть, недурной, если бы у человека были бы внутри ноты беззаботности, веселья, — высокомерно заявил Крамской, — а главное — умение сделать молодое смеющееся лицо молодым и смеющимся. Краски же — колорит сильный, небездарный. Но уж очень подражает Репину, по крайней мере, кажется».