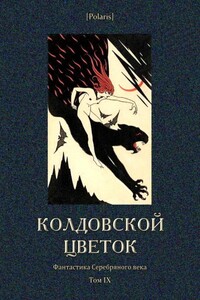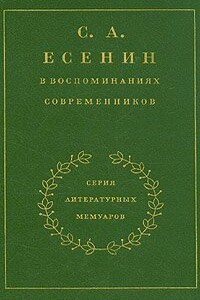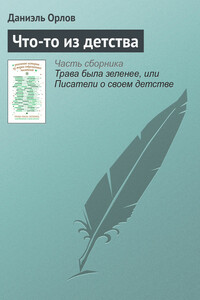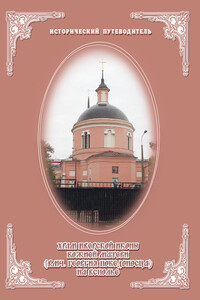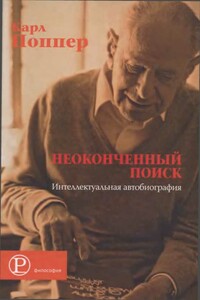«Все подробности обсуждались до того, — вспоминал Репин, — что даже мы рекомендовали друг другу интересные модели. С большой заботой, до назойливости, я критиковал всякую черту в картине, и, поразившись сходством намеченного им одного стрельца, сидящего в телеге, с зажженной свечою в руке, я уговорил Сурикова поехать со мною на Ваганьковское кладбище, где один могильщик был чудо-тип. Суриков не разочаровался: Кузьма долго позировал ему, и Суриков при имени Кузьмы даже впоследствии всегда с чувством загорался от его серых глаз, коршуничьего носа и откинутого лба».
Советы бывали и вредны. Суриков поддавался им, но ненадолго. Так было с «назойливым» увещеванием Репина повесить на пустых виселицах вдоль Кремлевской стены хотя бы одного стрельца. «Повесь, повесь», — твердил Репин. И Суриков повесил. Чутье мастера подсказало ему, что одной этой «надуманной», «головной», «лишней» деталью он разрушал и композицию вещи и все ее напряженно-сосредоточенное и трагическое молчание. Суриков со стыдом и ужасом убрал это крикливо-фальшивое добавление.
За три года работы над «Стрельцами» художник, кажется, сделал одно-два отступления к постороннему. В Тульском имении некоей Дерягиной, куда художник приехал писать лошадей и телеги для картины, он исполнил, должно быть, в благодарность за гостеприимство, портрет хозяйки. Известен также автопортрет художника 1879 года.
«Утро стрелецкой казни» появилось ка девятой передвижной выставке 1 марта 1881 года.
Картина была куплена на выставке Павлом Михайловичем Третьяковым, составлявшим свою, впоследствии знаменитую, галлерею, ныне перешедшую рабочему государству СССР как ценнейший памятник русского искусства.
Эта покупка у дебютанта первой картины служила лучшим доказательством его признания. Вкус Третьякова был общепризнан, хотя порою и капризен. «Попасть» в галлерею Третьякова значило иметь большой денежный и художественный успех.
Картина была принята самыми разнообразными слоями русского общества, студенческим молодняком, революционно настроенной интеллигенцией лучше, чем тогдашней печатной критикой.
Некоторая «неуклюжесть» критики в оценке картины вполне объяснима: традиционно установилось «бояться» дебютантов, как бы не ошибиться в них, не наговорить лишнего, а потом чувствовать неловкость от преждевременных похвал. Консервативность критической мысли не изменила себе и в приеме Сурикова. Все же о картине говорили и писали много. А чем дальше отходили от времени ее появления, тем больше.
Глава и властитель художественной критики В. В. Стасов, яростный пропагандист «национального начала» в русском искусстве, один из вождей и создателей новой русской школы в музыке так называемой «могучей кучки» — Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, Балакирева, культивировавших исконные мотивы русской народной песни, былины, древнерусской легенды, — чистейший националист, славянофил, поклонник всего русского, пытавшийся аргументировать во множестве статей необходимость объединения в вопросах искусства народничества и славянофильства, — находил: «общее впечатление ватаги стрельцов, с зажженными свечами, скученных в целой толпе, нагроможденных телег, ново и значительно». Глава передвижников Крамской, близкий по духу и воззрениям В. В. Стасову, хотя и не такой страстный апологет всего русского, типичный интеллигент-разночинец, будучи натуралистом в своем художественном методе, однако меньше других передвижников, оставаясь их главой, уделял внимание сюжетам с социальной тематикой, предпочитая отвлеченно-философские, психологические и поэтические, писал Сурикову, находя в картине «какой-то древний дух и один только запах»; скульптор Антокольский, по своим натуралистическим воззрениям на искусство и по общественному подходу в своей тематике довольно близкий передвижникам, признавал: «по-моему, это первая русская картина историческая. Может быть, она шероховата, может быть, недокончена, но в ней зато столько преимуществ, которые во сто раз выкупают все недостатки»; «Главная задача исторической картины — внутреннее содержание — у художника есть» (либеральные «Русские ведомости»), «Картина эта не помогает нам понять историю, ибо мы не знаем, что хотел ею сказать художник. На чьей стороне стоит художник, изображая эту историческую минуту? Судя по тому, что главное место отведено семейному прощанию, отчаянию отцов, матерей, жен и детей, можно думать, что г. Суриков не на стороне Петра. Тогда ему следовало пояснить нам свою мысль и наглядно изобразить перед нами, чем вызываются его симпатии к стрельцам». Если-де так, «то их следовало изображать не с таким разбойничьим лицом, каково, например, у рыжего стрельца на первом плане» (черносотенные «Московские ведомости»).