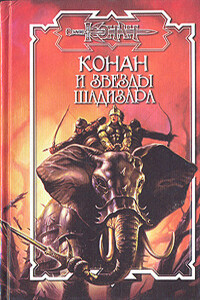Родник не заплевать.
…Леди Диамант…
Проблядь шикарная.
Стерва стриженая, подстилка скореновская, умница заоблачная, дура великосветская. Откуда принесла, тебя нелегкая?
Вестимо откуда – из краев друга милого. От туда. Больше неоткуда.
Сердце зябнет. Туман по душе стелется. Ядовитым аспидом ползает. Рысиными когтями царапает. Волчьим наметом перси топчет.
Там, в краях далеких, была Диамантша витязю не сестрой, не другом, не сотоварищем. Была она…
Нет! Не была! Не могла быть. Не должна была быть!
Сигмонд, Сигмондушко.
Суженый, родимый, неизбывный.
Ангел голубоглазый.
Все то у нас хорошо, славно сложилось, ладо мое. Бок о бок пробирались дебрями Блудного бора, Сатановскую пустошь миновали, сквозь варяжские хирды прорубились, меж холмами тропу костями засыпали. В горном распадке утренняя заря обоюдной клятве внемлила и восходящее светило озарило нашу стезю.
Все-то ладно. Да горюшко одно – нету нас дитятки, сыночка, кровинушки. Наследника славы родительской. Приемника доблести отцовской. Надежды ныне и присных гильдгардовцев.
Сигмонд не попрекает. Виду не кажет, как горько ему. Косых, лукавых взглядов словно не замечает. К нушничаниям глух, ухмылкам королевских лизоблюдов внимания не придает.
Славный в рати, привычно боронит друга, своей груди не щадит. Так и дома – все невзгоды богатырскими раменами выдюживает. Непосильное сносит. Доколе осилит?
– Это, – говорит, – мое упущение. Не принял во внимание негативное влияние нуль-транспортировки на репродуктивные функции организма. Не учел последствия межконтинуумого переноса, прости великодушно.
Сигмундушко, в чем прощать? Кого? Когда сопливая девчонка, измордованная бесчестием, на гнилой соломе, вымоленным усердием бабки-повитухи, утеряла всем женам присущее. Пустобрюхую козу на живодерню тащат.
А вот эта Стекляшка треснутая, кошка течная, тварь сыроядная, в способности наплодить помету сколько приспичит.
Ох, схлестнуться бы с нею, сукой подколодной. Один на один. Морда к морде. Меч на меч. В зенки ее бесстыжие разок взглянуть, а там, будь что станется! И банша мне не сестра!
Suca! Padla! Lyarva!
Но молчит лорд. Не смеет и Гильда ворошить запретное.
Одною ночью Сигмонд коня оседлал, в тревожную степь подался. Куда, зачем? Замковой челяди невдомек, кланщикам неведомо. Сам, один ускакал. Ингрендсонам дома остаться повелел, из них правды пыточными щипцами не выведать.
Поутру вернулся. Счастье, что цел-невредим. Однако хмурый приплелся, осунувшийся. В глазах пустота непросветная. На челе морщина, вчерась не было.
– Сигмондушко, родненький, с кем Ты?
Крепко грустилось Гильде. В думах ли криком кричала, в слух ли шептала. Не заметила, как в палаты витязь вошел. За плечи обнял.
– С тобою, Гильда. Бронзово-золотое чудо мое, неизбывное, зеленоокое.
Так сказал. Или почудилось?
Леди Гильда скинула золототканое платье, старательно облачилась в боевой доспех. Мечи поправила, лук натянула. Колчан за спину закинула.
– Нет уж-ки, повелитель мой, властительный лорд Сигмонд, витязь Кролика Небесного, сэр рыцарь и пэр Короны. Я, высокородная дщерь сенешаля, названная сестра короля Сагана, клянусь: от сей поры с тобою неразлучна буду. И в радости и в горе, и на честном пиру и на битве смертной рядышком прижмусь. На пуховых ли полатях нежиться, во сырой ли земле тлеть – все едино. Только рядышком.
– Быть по сему. – Тверд Сигмонд в слове своем. А глаза, глаза то, небесной лазурью исполнились.
Сатановский Вепрь Короны терся щетинистым боком о сапоги хозяев, довольно прихрюкивал. Хижие поросячьи зенки скрывала волосня ресниц.
Ингрендсоны взяли на караул.
– На обед предлагаются пареные раки. – Торжественно сообщил управитель.
* * *
Зрелище было мерзкое.
Один из шаманов совершенно одурев от собственных воплей, обернулся спиной к городу, нагнулся, свесив непристойность гениталий, выставил вверх голый зад. Противнейше им покручивал.
– Великий Бугх! Какая нечисть! – В сердцах вскричала Гильда, привыкшая, что даже одних брюк мужчине мало, следует еще и кильтом прикрыться. – Да что же это за такое, Сигмонд!
Сигмонд оценивающе присматривался к трясущемуся седалищу. Дистанция оказывалась подходящей. Достал свой чудесный лук, положил стрелу, прицелился. Крутящийся наконечник тяжелой стрелы с чмокающим звуком ввинтился в срамную плоть. Истошно, теперь уже от нестерпимой боли, завопил охальник, когда трехгранное острие прорывало брюшину, и проходя насквозь, выволакивало на землю намотанные на древко кишки.