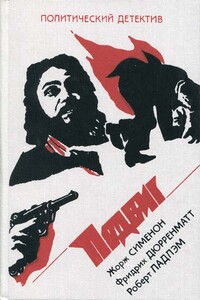– Это же абсурдно, – воскликнул он, – Лутц из своих политических соображений саботирует дело. Фон Швенди его друг и адвокат Гастмана, из этого легко сделать вывод.
Берлах даже не поморщился:
– Хорошо, что мы одни, Чанц. Может быть, Лутц и поступил немного поспешно, но из добрых побуждений. Загадка в Шмиде, а не в Гастмане.
Но Чанца нелегко было сбить с толку.
– Мы обязаны доискаться правды, – воскликнул он с отчаянием в надвигающиеся тучи. – Нам нужна правда и только правда о том, кто убийца Шмида!
– Ты прав, – повторил Берлах, но бесстрастно и холодно, – правда о том, кто убийца Шмида.
Молодой полицейский положил старику руку на левое плечо и взглянул в его непроницаемое лицо:
– Поэтому нам нужно действовать во что бы то ни стало, и действовать против Гастмана. Следствие должно быть исчерпывающим. Нельзя всегда поступать согласно логике, сказали вы. Но в данном случае мы должны так поступать. Мы не можем перепрыгнуть через Гастмана.
– Убийца не Гастман, – сказал Берлах сухо.
– Может быть, Гастман только приказал убить. Мы должны допросить его слуг! – воскликнул Чанц.
– Я не вижу ни малейшей причины, по которой Гастман мог бы убить Шмида, – сказал старик. – Мы должны искать преступника там, где преступление имело бы смысл, а это касается только федерального поверенного, – продолжал он.
– Писатель тоже считает Гастмана убийцей, – крикнул Чанц.
– И ты тоже считаешь его убийцей? – насторожился Берлах.
– И я тоже, комиссар.
– Значит, только ты, – констатировал Берлах. – Писатель считает его лишь способным на любое преступление, это разница. Писатель не сказал ни слова о преступлениях Гастмана, он говорил только о его потенциях.
Тут Чанц потерял терпение. Он схватил старика за плечи.
– Многие годы я оставался в тени, комиссар, – прохрипел он. – Меня всегда обходили, презирали, использовали черт знает для чего, в лучшем случае как опытного почтальона.
– С этим я согласен, Чанц, – сказал Берлах, неподвижно уставясь в отчаянное лицо молодого человека, – многие годы ты стоял в тени того, кто теперь убит.
– Только потому, что он был более образованным! Только потому, что он знал латынь!
– Ты несправедлив к нему, – ответил Берлах, – Шмид был лучшим криминалистом, которого я когда-либо знал.
– А теперь, – кричал Чанц, – когда у меня, наконец, есть шанс, все должно пойти насмарку, моя единственная возможность выбиться в люди должна пропасть из-за какой-то идиотской дипломатической игры! Только вы можете еще изменить это, комиссар, поговорите с Лутцем, только вы можете убедить его послать меня к Гастману.
– Нет, Чанц, – сказал Берлах, – я не могу этого сделать.
А тот тряс его, как школьника, сжимал его плечи кулаками, кричал:
– Поговорите с Лутцем, поговорите! Но старик не уступал.
– Нельзя, Чанц, – сказал он, – больше я этим не занимаюсь. Я стар и болен.
Мне необходим покой. Ты сам должен себе помочь.
– Хорошо, – сказал Чанц, отпустил Берлаха и взялся за руль, хотя был смертельно бледен и дрожал. – Не надо. Вы не можете мне помочь.
Они снова поехали вниз в сторону Лигерца.
– Ты, кажется, отдыхал в Гриндельвальде? В пансионате Айгер? – спросил старик.
– Так точно, комиссар.
– Там тихо и не слишком дорого?
– Совершенно верно.
– Хорошо, Чанц, я завтра поеду туда, чтобы отдохнуть. Мне нужно в горы. Я взял недельный отпуск по болезни.
Чанц ответил не сразу. Лишь когда они свернули на дорогу Биль – Нойенбург, он заметил, и голос его прозвучал, как обычно:
– Высота не всегда полезна, комиссар.
* * *
В этот же вечер Берлах отправился к своему врачу доктору Самуэлю Хунгертобелю, на площадь Беренплатц. Уже горели огни, с каждой минутой все больше вступала в свои права темная ночь. Из окна Хунгертобеля Берлах смотрел вниз на площадь, кишевшую людьми. Врач убирал свои инструменты.
Берлах и Хунгертобель давно знали друг друга, они вместе учились в гимназии.
– Сердце хорошее, – сказал Хунгертобель, – слава богу!
– Есть у тебя записи о моей болезни? – спросил Берлах.
– Целая папка, – ответил врач и указал на ворох бумаг на письменном столе.
– Все о твоей болезни.
– Ты кому-нибудь рассказывал о моей болезни, Хунгертобель? – спросил старик.