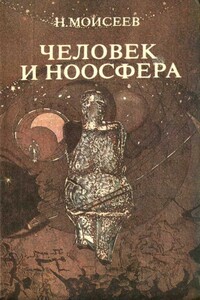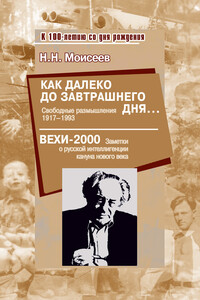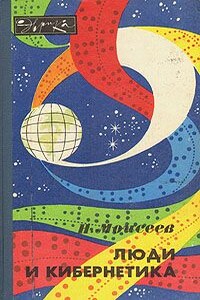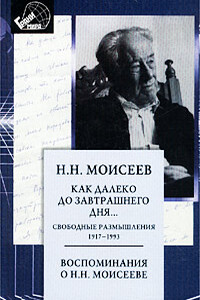Но во всем этом тоже просматривается своя логика - логика истории. И задача человека, его Коллективного Разума, научиться вписывать эту логику истории в логику развития Природы, найти ту гармонию синтеза обеих логик, которая только и способна обеспечить развитие человека. А для этого, хотим того или не хотим, мы должны подумать о возможных альтернативах исторического процесса.
Но говорить об альтернативах исторического процесса можно только тогда, когда речь идет о будущем. А чтобы эти рассуждения имели смысл, надо опираться на уроки прошлого. Не искать в них ответов на сиюминутные потребности, но со вниманием относиться к аналогиям. Вероятно, это и есть главный постулат философии истории, ее сокровенный смысл.
2. Доброе слово о Вольтере. Новая историческая наука
Сегодня мало кто использует термин “философия истории”, хотя именно теперь, на переломе истории цивилизаций, на пороге нового кризиса, больше, чем когда-либо, необходимы понимание и интерпретация смысла этого термина. Но, прежде чем его обсуждать, вспомним некоторые факты прошлого.
Словосочетание “философия истории” придумал и начал использовать великий Вольтер, человек, коллеги и последователи которого, по иронии судьбы, вообще не считали историю наукой. Так, Монтескье в своем знаменитом сочинении “О духе законов” (1748 год) писал о том, что любая человеческая жизнь и жизнь любого народа - просто отражение и климатических, и географических, и прочих условий обитания. Философия истории эпохи Вольтера исключала созидательную возможность человеческого разума и не рассматривала его в качестве одного из начал развития человеческого общества, а сводила его роль лишь к коллекционированию фактов. Еще 200 лет тому назад ученым было чуждо восприятие истории в виде описания некого процесса - процесса развития общества.
И, несмотря на то, что понятие философии истории было детищем XVIII столетия, само понятие историзма и вера в ту роль, которую способен играть духовный мир в судьбах и отдельного человека, и общества, полностью исчезает в эпоху Просвещения. В этом эпоха Просвещения была совершенно не похожа на эпоху Возрождения, которая полагала, как и в античные времена, что человек в своих свершениях мог стать равным Богу, что именно он творил историю.
Конечно, философия истории не только возникла, не только сохранялась, но и развивалась в век Вольтера, ибо и тогда признавалось существование некоторых общих законов общественной эволюции, однако столь же независимых от желания и действий людей, как и законы движения планет. А ведь подобные утверждения тоже относятся к философии истории.
К эпохе Вольтера нельзя относиться однозначно. Век Просвещения был великий век: он создал стандарты рационального мышления, благодаря которым только и могла возникнуть современная наука. Основы успехов XIX и ХХ веков были заложены в XVIII веке, когда оформилось понимание того, что значит наука и научный метод. Мы все и теперь несем на себе печать классического рационализма, всей той системы взглядов, которая привела на современный уровень не только физику, но и остальные области естествознания. Но, отдавая должное гениям эпохи Просвещения, нельзя не видеть и ограниченность ими созданного мировоззрения. Идеалом науки была простота, образцом которой стали законы Ньютона. Этот идеал сохраняется и сейчас, и мы все следуем знаменитому принципу - “не употребляй сущностей без надобности”, но этого, увы, недостаточно!
Стремление к упрощению естественно для любой науки. Оно необходимо: человек может мыслить лишь относительно простыми схемами. Поэтому я не бросаю упрека стремлению к универсальности предложенных схем и идей редукционизма и не считаю это пороком. Более того, именно им обязана наука XIX века своими успехами. И представление о мироздании как о некогда запущенной, причем достаточно простой машине тоже было необходимым и крайне важным для дальнейшего развития этапом становления мысли. И очевидно, что вместе с накоплением знаний эти схемы, эти представления о машине, действующей по раз и навсегда заведенному правилу, неизбежно должны были бы качественно усложниться. Что и начало происходить уже в XIX веке. Но в мышлении титанов эпохи Просвещения был один постулат, преодоление которого оказалось возможным только в ХХ веке.