«Новых звуков давно не слышно, – твердил Блок, говоря о своей «музыке». – Все они притушены для меня, как, вероятно, для всех нас… Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве».
Кощунственно в отношении чего или кого? Блок говорил опять-таки о «музыке», которой ему, как поэту, стало недоставать в революции. По словам Горького, Блок был человеком «бесстрашной искренности», который умел чувствовать «глубоко и разрушительно». В момент разрушения России «еретик» Горький, может быть, даже из чувства внутреннего противостояния фатальной исторической реальности, хотел быть созидателем и собирателем «камней». Как остроумно заметил Виктор Шкловский (уже в 1926 году, но имелось в виду явно революционное время), «у него развит больше всего пафос сохранения культуры, – всей. Лозунг у него – по траве не ходить. Горький как ангар, предназначенный для мирового полета и обращенный в склад Центросоюза».
Наоборот, Блок весь желал отдаться полету, мировой стихии (не как горьковский Буревестник, внешне, а внутренне, через «музыку»). Но он не слышал ветра, не видел стихии, а слышал стоны и жалобы и видел «железную» поступь новой власти.
Горький, хотя был не в силах помочь всем и спасти культуру, был в лучшем положении, чем Блок. Он оказался на своем месте. А вот Блок был просто «не нужен» новой действительности. Современность «выдавливала» его из себя, как организм «выдавливает» чужеродный объект. Отсюда (помимо элементарного голода) и блоковская депрессия.
Вот сценка – разговор Горького с Блоком в Летнем саду:
«С ним ласково поздоровалась миловидная дама, он отнесся к ней сухо, почти пренебрежительно, она отошла, смущенно улыбаясь. Глядя вслед ей, на маленькие, неуверенно шагавшие ноги, Блок спросил:
– Что вы думаете о бессмертии, о возможности бессмертия?
Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо. Я сказал, что, может быть, прав Ламенне30: так как количество материи во вселенной ограниченно, то следует допустить, что комбинации ее повторяются в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье в Летнем саду. Он спросил:
– Это вы – серьезно?
Его настойчивость и удивляла, и несколько раздражала меня, хотя я чувствовал, что он спрашивает не из простого любопытства, а как будто из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую мысль.
– У меня нет причин считать взгляд Ламенне менее серьезным, чем все иные взгляды на этот вопрос.
– Ну, а вы, вы лично, как думаете?
Он даже топнул ногою. До этого вечера он казался мне сдержанным, неразговорчивым.
– Лично мне больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую «мертвую материю» в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь «мир» в чистую психику.
– Не понимаю – панпсихизм, что ли?
– Нет. Ибо ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков сознания до момента последнего взрыва мысли.
– Не понимаю, – повторил Блок, качнув головою.
Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль – результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мертвой», неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком, претворится мозгом в единую энергию – психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании – в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей.
– Мрачная фантазия, – сказал Блок и усмехнулся. – Приятно вспомнить, что закон сохранения вещества против нее.


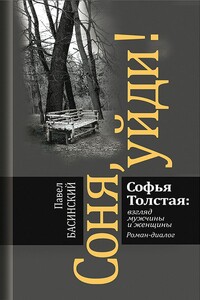



![Сквозь льды [Повесть о полярном исследователе Р. Амундсене]](/uploads/books/images/88/881fbf26eb5720fdc72c05d52001f053abbf089c.jpg)
