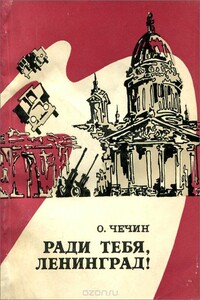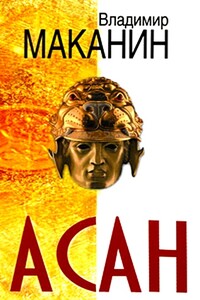— Катька получше Марьки. И телом подобрее, и лицом побелее, и родители у нее побогаче, сами приданое дали. Круглый выигрыш получился!
О Марьке, говорил Семка, он не горюет и горевать не собирается. Сватался за нее просто потому, что жила у них в батрачках, привыкли жалеть ее, из жалости и выкуп родителям давали. Из грязи бы да в князи угодила девка, а раз ума не хватило, обзарилась на голодранца-варнака, пусть на себя пеняет.
Ну, а что было у Семки на уме — кто знает? Только позор не вдруг смоешь. Все понимали, что Семка затаил лютую ненависть. И похоже, постарался, чтоб Ивана в первую голову отправили на войну.
Служил Иван матросом на Балтийском флоте, на минном тральщике. Как он там плавал и вылавливал эти окаянные мины, Марька не представляла себе. Никогда не видывала она ни моря, ни мин, да сердцем понимала, что вылавливает Иван злую смерть, стало быть, и сам ходит рядом со смертью.
Тревогу на время рассеивали письма. Однако, вспыхнув, радость быстро гасла: Иван мог десять раз сгинуть за то время, пока шло письмо. Было бы, наверное, все-таки полегче, если б осталась с ребенком. Растила бы второго Ивана.
А война шла нескончаемо. И кроме гнетущей тревоги за Ивана, много свалилось в эти годы на Марьку горьких вестей. Без вести пропал на фронте брат. Тиф-брюшняк унес в могилу отца с матерью, двух сестер. Умерла и свекровка. Осталась Марька одна со свекром. Невелико у них хозяйство, конь с коровой да пашни полторы десятины, только старый солдат теперь был вовсе не помощник, и все заботы-работы лежали на Марькиных плечах. Для одной-то груз нелегок, тянуть да тянуть.
Изверилась Марька и чаще ждала не возвращения мужа, хотя бы покалеченного, как свекор, а похоронки из волости. Скольких уж солдаток подкосила эта злюка-весть, не верилось, что и ее обойдет.
Но Иван явился.
Ранним декабрьским утром, едва прогорланили зоревые петухи, настежь распахнулась дверь избы, и в облаке морозного пара через порог шагнул матрос в бушлате.
Марька, только что принесшая со двора охапку поленьев, обомлела, с грохотом выронила их возле печи. Лампу Марька не зажигала, потому что не было керосина, а печь еще не успела растопить, в избе стоял полумрак, она не узнала Ивана, но сердцем почуяла: это он. И не помня себя стремительно кинулась к нему, повисла на шее.
— Живой! Живой!! — всхлипывала она.
Иван крепко ее обнял, произнес весело:
— Не реви, а радуйся, Марька! Я не просто живой — я всем нашим мужикам и бабам вольную жизнь принес. Пришел не абы как — с Советской властью в руках.
До Сарбинки дошел слух, что в «Расее» рабочие да крестьяне сбросили буржуйское правительство и установили народную власть. В больших сибирских городах, уверяли люди, тоже народ власть захватил. Но в окрестных селах и деревнях все пока было по-старому. Волостью правили старшина с писарем, в деревнях — сельские старосты. Люди поэтому и верили и не верили, что войне конец и солдаты скоро вернутся домой. Была уже одна революция — царя скинули, а война все продолжалась.
— Наша взяла, Марька! Мы наш, мы новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем. Власть — народу, войне — конец!
Марька плохо соображала, почти не слушала, что говорит Иван. Она была оглушена, потрясена его появлением. И важнее любых слов для нее сейчас было то, что вот он, ее Иван, стоял в избе, и она могла прислониться к его груди, выплакать застоявшиеся слезы.
И все-таки, хотя и не вникала Марька в смысл сказанного, однако сознавала: Иван насовсем. И войну, и смерть, и всякое зло, которое топью стояло вокруг него — все одолел! А осознав это, Марька спохватилась: надо мужа покормить. Ясно, он всю ночь провел в дороге, если явился спозаранок, и, конечно, голоден.
— Ой, погоди, я печку растоплю, блины заведу живенько.
— Давай, давай! — И, помолчав минуту, спросил изменившимся, неуверенным голосом: — А бати что-то не вижу…
— Ой, прости меня, дуру! Ополоумела, забыла, что радость великая не для меня одной… Вон он, батюшка.
Старик сидел на печке, свесив ноги. Деревяшку он к ночи отстегивал, и теперь в волнении не мог найти ее, шарил трясущимися руками вокруг себя и плакал молча.