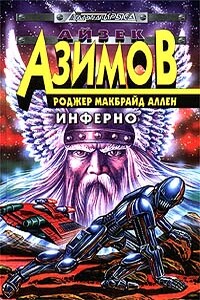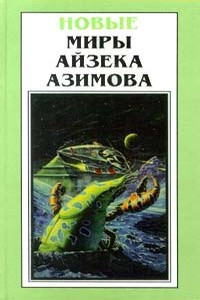Понемногу, Джону удалось внедрить в доме множество нововведений, экономивших время и усилия: немного сдвинуть какой-нибудь крючок или полку, чтобы обеспечить свободный доступ к предметам; изменить баланс ведерка с углем; реорганизовать кладовую и ванную комнату. Он хотел привнести те же способы организации во врачебный кабинет, предложив новые способы для чистки пробирок, стерилизации инструментов и хранения лекарств, но отступил после нескольких попыток, заметив: «Док предпочитает сам разбираться в своем беспорядке».
Еще через две или три недели его интерес к домашнему хозяйству, казалось, поугас, проявляясь лишь изредка, в связи с какой-нибудь конкретной задачей. Джон стал проводить много времени вне дома, якобы читая на берегу. Но с приближением осени мы стали беспокоиться о том, чтобы он таки образом не простудился — и у него тут же появилась привычка подолгу гулять в одиночестве. Кроме этого, он часто пропадал в ближайшем городе. «Я хочу поехать в город, чтобы увидеться с кое-какими приятелями, которыми я заинтересовался», — говорил он нам, и возвращался поздно вечером, усталый и полностью погруженный в себя.
Только ближе к концу зимы Джон, которому исполнилось десять с половиной, посвятил меня в детали поразительной финансовой операции, которой он был занят в прошедшие шесть месяцев. В одно серое воскресенье, когда за окном шел моросящий дождь пополам со снегом, он предложил выйти прогуляться. Я, разумеется, возмутился. «Ну же, — продолжал настаивать Джон. — Тебе понравится. Я собираюсь показать тебе мою мастерскую». И он медленно подмигнул сначала одним огромным глазом, потом другим.
К тому времени, как мы добрались до берега, мой не по погоде легкий плащ промок насквозь, и я уже проклинал и Джона, и себя самого. По мокрому песку мы добрели до места, где отвесные глинистые скалы сменились не менее крутым откосом, поросшим колючим кустарником. Джон опустился на четвереньках и пополз по тропинке среди кустов, показывая дорогу. Мне следовало ползти за ним, но вместиться в узкое пространство, где Джон перемещался с легкостью, было практически невозможной задачей. Я едва сумел проползти всего несколько ярдов, и обнаружил, что застрял среди колючек, со всех сторон проткнувших мою одежду. Смеясь над моим положением и моей руганью, Джон повернул назад и срезал державшие меня ветки своим карманным ножом — тем же самым, без сомнения, которым он убил констебля. Еще через десять ярдов тропинка вывела нас на небольшую поляну посреди склона. Выпрямившись, наконец, я проворчал: «И это ты называешь мастерской?» Джон рассмеялся и велел: «Подними вот это», — указывая на изъеденный ржавчиной лист металла, валявшийся посреди поляны. Один его край скрывался под грудой мусора. Свободна была часть около трех квадратных футов. Я приподнял лист на пару дюймов, порезал пальцы о ржавый зазубренный край и с проклятием бросил это занятие: «Не хочу возиться. Сам разбирайся со своим мусором, если тебе так надо».
«Разумеется, тебе не хочется возиться, — ответил Джон. — И никому, кто найдет это место, не захочется». После этого он просунул руку под свободный край, и стал распутывать какую-то ржавую проволоку. После этого лист легко поднялся как люк в холме. Под ним оказался темный проход, укрепленный тремя большими камнями. Джон прополз внутрь, приглашая меня следовать за ним, но ему пришлось сдвинуть один из камней, чтобы я поместился в узком лазе. Внутри обнаружилась низкая пещера, которую Джон осветил фонариком. Так вот что он называл мастерской! Пещера, судя по всему, была выкопана в глиняном холме и укреплена цементом. Потолок удерживался нестрогаными досками, которые тут и там подпирали деревянные столбы.
Джон зажег карбидную лампу[18], вделанную в наружную стену. Закрыв стеклянную дверцу, он заметил: «Воздух подается к лампе по трубе, которая выходит наружу, а дым отводится по другой. В помещении отдельная система вентиляции». Он указал на дюжину отверстий в стене и пояснил: «Дренажные трубы». Эти трубы были обычным делом в наших краях — их использовали, чтобы осушать поля. А постоянно осыпавшиеся склоны на берегу моря обнажали их.