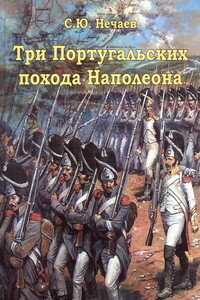— Скорцени? — вскинул брови Ранке. — Тот самый? Вы с ним знакомы?
— Да. Еще по Югославии.
— Вот оно что?! Неплохое знакомство. Его называют человеком с большим будущим. Сам фюрер знает о нем и, говорят, неоднократно упоминал его имя на различных совещаниях. Прошел слух, что зимой он уже прославился в нескольких блестящих операциях за рубежами рейха.
— Это похоже на Скорцени. Я мог бы, конечно, попросить об этой любезности своего отца, однако не хочется беспокоить старика по пустякам. Да и письма…
— Письма идут слишком долго, — понимающе улыбнулся подполковник. — Я попрошу своих знакомых в Берлине, чтобы они деликатно поинтересовались местопребыванием этого человека. Если только оно не является сейчас одной из государственных тайн.
Фельдшер, который пришел утром из отряда Иванюка, долго сидел на корточках возле Беркута, рассматривал рану и задумчиво тер подбородок.
— Что заставило вас задуматься, доктор? — поинтересовался Андрей.
— Так ведь есть над чем, — наконец поднялся старик. — Нужна операция.
— Понятно, что нужна. Я не собираюсь всю жизнь носить в себе свинец, которым меня нашпигуют за годы войны, — в эту ночь Беркут так и не смог уснуть и теперь лежал усталый, бледный. Тем не менее вел себя довольно спокойно.
— Но у нас нет хирурга. Да и вообще врача. В отряде «Мститель», говорят, есть люди, поддерживающие связь с городской больницей. Так ведь сначала нужно разыскать этот отряд, потом послать людей в город и каким-то образом доставить сюда хирурга. Поэтому еще дня три придется потерпеть. Это в лучшем случае.
— В лучшем — да, — кивнул Беркут. — Но я всегда рассчитываю на худший. А потому слушайте меня внимательно, фельдшер. Скальпель у вас с собой?
— Нет. Я собирался всего лишь промыть рану и перевязать вас. Операций я никогда в жизни не делал. — Фельдшеру было лет под шестьдесят — приземистый, худой, донельзя сутулый, словно согнулся под тяжкой ношей. — Меня ведь только называют фельдшером. На самом деле я работал в больнице санитаром. Перевязать — это я еще умею. Укол сделать тоже могу. Словом, кой-чего насмотрелся. Но чтобы за скальпель браться… Да и в отряде совсем недавно.
— Все понятно, отец. Я все же буду считать вас фельдшером. Крамарчук!
Николай сидел на пеньке у землянки и поэтому вошел сразу же.
— Собери у ребят все ножи, какие есть. И тащи их сюда.
Когда через несколько минут сержант выложил перед фельдшером десяток ножей различной величины, старик удивленно посмотрел сначала на него, затем на Беркута, словно все еще не понимал, что они задумали.
— Ну вот, видите, за скальпелем дело не станет, — едва заметно улыбнулся Андрей. — Выберите поострее, с самым узким лезвием, подержите его над огнем, протрите спиртом и начинайте.
— Начать нетрудно… — замялся фельдшер. — Только выдержите ли? У меня нет ничего обезболивающего. Даже самый паршивенький укол сделать нечем.
— И не нужно. Не обращайте на меня никакого внимания. Крамарчук нагреет воды и будет помогать вам.
Фельдшер орудовал ножом так, что, глядя на его работу, Николаю хотелось вырвать это страшное орудие из рук старика, а самого его вышвырнуть вон. Сдерживало только терпение лейтенанта: глаза закрыты, зубы сцеплены, скулы выпячены так, что, казалось, кожа вот-вот лопнет. Тем не менее ни разу не дернулся, не вскрикнул, лишь однажды застонал. Да и то Крамарчук потом сомневался: стон ли это был или просто мученический вздох.
Но когда, пораженный его терпением, фельдшер негромко спросил: «Неужто не чувствуешь боли, командир?», — Беркут не сдержался и сквозь зубы прохрипел: «Не трать времени, отец, делай свое дело. К черту сочувствия».
— Во спасение души, старик, — вдруг простонал вместо него Крамарчук, как только фельдшер снова взялся за свое страшное орудие пытки. — Ты же не тушу разделываешь! Под ножом у тебя — живой человек.
— Вот именно: все еще живой, — неопределенно как-то ответил «тушеразделыватель».
Наконец фельдшер извлек пулю, промыл рану и туго забинтовал ногу. Дождавшись конца этой хирургической экзекуции, Николай вздохнул с таким облегчением, словно пулю вынули из его тела. И когда, открыв глаза, Беркут, пересилив боль, подмигнул ему, сержанту показалось, что все тревоги его были напрасными, потому что этот непостижимый человек знает средство, которое помогло бы ему перенести и не такую операцию. Нет, Крамарчук действительно поверил, что лейтенант способен выдержать любую боль, любую пытку. Что его христоголгофское терпение не знает предела.






![Мы снова уходим в бой… [Рассказы писателей Вьетнама]](/uploads/books/images/5a/5a62a203b13a98ebd37930a1d000a24a3faf28f3.jpg)