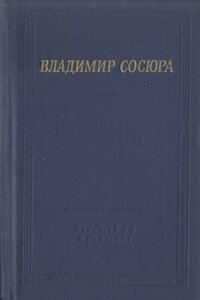Холодно.
Холодно.
Холодно.
По снегу, по лесу
едем мы
до полуночи с полудня
на войну, как к полюсу.
А когда мы остановились,
стало томительно с непривычки.
Нас стали разводить по домам.
Мы обшарили стены, обчиркали спички,
покамест дверь не открылась сама.
Мы вошли, от тепла онемев,
и холод пролез за нами.
Сняли заиндевелые каски.
Они, загремев,
устроились рядом с домашними чугунами.
Нас за стол посадила хозяйка.
А мы
ложки отыскали за голенищами.
Слушали говор карелов,
услышали: ищет
нас за темными окнами
непогода зимы.
А когда отошли, оттаяли, отогрелись,
прочли на стеклах:
мороз до пятидесяти!
Разговорились:
«И как это терпят в Карелии!
Не война бы — так нам
ни за что и не вынести!..»
— «Что, морозно?»
— «Да так, ничего», — отвечаем.
Появился старик
(он спал в другой комнате)
и сказал,
что морозец к утру покрепчает.
«Переночуете, может?
Куда вы!
Замерзнете!»
А пока мы молчали обиженно
и в тишине вьюга стала заметней,
карел хвалился широкими лыжами
давности тридцатилетней.
А потом рассказал о таком холоде,
который, пожалуй, больше не повторится.
«Было это
назад за тридцать,
в лесу и сейчас
есть сосны расколотые.
Много было всяких морозов потом,
но не было более сильного.
Тогда,
в такую же полночь,
в наш дом
привели русского ссыльного.
Мороз ему щеки дорогой выжег,
выбелил голые пальцы,
он все-таки вынес,
выжил,
не сдался.
Вот это —
его лыжи.
А ведь не на войну шел!
И не такое на нем…»
Но мы уже каски отыскивали,
а за окнами, между машинами рыская,
уже помахивали фонарем.
Мы прощались.
«Прощайте,
прямого пути!
Я пожелаю вам лучшего самого:
после войны
вам к ссыльному моему подойти», —
и показал на сосновую стенку глазами.
Мы застыли у порога,
удивлены
глазами в очках, знакомыми,
и бородкою клином.
Смотрел на нас
Михаил Иваныч Калинин.
Мы подумали:
«Что ж
это было в начале
нашей войны!»
1940