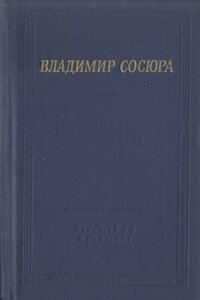За ладонь, отделившую губы от губ.
Вам казался он:
летом —
слишком двадцатилетним
осенью —
рыжим, как листва на опушке,
зимою
ходит слишком в летнем,
а весною —
были веснушки.
А когда он поднял автомат, —
вы слышите? —
когда он вышел,
дерзкий,
такой, как в школе,
вы на фронт
прислали ему платок вышитый,
вышив:
«Моему Коле!»
У нас у всех
были платки поименные, —
но ведь мы не могли узнать
двадцатью зимами,
что когда
на войну уходят
безнадежно влюбленные
назад приходят
любимыми.
Это всё пустяки, Николай,
если б не плакали.
Но живые
никак представить не могут:
как это, когда пулеметы такали,
не встать,
не услышать тревогу?
Белым пятном
на снегу
выделяться,
руки не перележать и встать не силиться,
не видеть,
как чернильные пятна
повыступали на пальцах,
не обрадоваться,
что веснушки сошли с лица?!
Николай!
С каждым годом
он будет моложе меня,
заметней
постараются годы
мою беспечность стереть.
Он
останется
слишком двадцатилетним,
слишком юным,
для того чтобы дальше стареть.
И хотя я сам видел,
как вьюжный ветер, воя,
волосы рыжие
на кулаки наматывал,
невозможно отвыкнуть
от товарища и провожатого,
как нельзя отказаться
от движения вместе с землею.
Мы суровеем,
друзьям улыбаемся сжатыми ртами,
мы не пишем записочек девочкам,
не поджидаем ответа..
А если бы в марте,
тогда,
мы поменялись местами,
он
сейчас
обо мне написал бы
вот это.