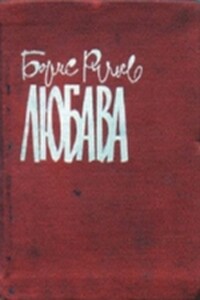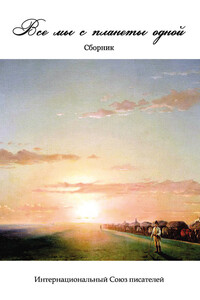парни тут — словно рыба в воде,
заплывают и дядьки с усами,
а без дедов нет жизни нигде.
Вот заходит такой бородатый
старичище, в саженную высь:
— Кто надумал жениться, робяты?
Покажись!..
Я смеюсь: мол, юродствует старый...
А старик до суровости строг:
— На-ко, внук, — говорит, — вместо дара
на хозяюшкин стол... образок!..
И торжественный не понарошку,
непонятный, как бог Саваоф,
подает деревянную ложку,
золоченую, райских цветов.
Ох, и ложка... Мастацкой обточки!
Будто в масле на вид и на вкус...
И на донце — в тройном ободочке,
как сердечко, карминовый туз.
А зачем она мне, грамотею,
кто от личного скарба отвык!
Но души моей не разумея,
хвалит дар свой настырный старик...
По законам бурлацкого рода,
будто сытости вечный залог,
эту снасть при закладке завода
старый с Волги в котомке берег.
Быть ей, стало быть, чьей-то обновой,
раз владетелю ейному тут
в постройковой рабочей столовой
ложку прямо во щах подают.
— А покамест и чурка сгодится,
старый быт хошь и гоним во гроб,
а твоей, — говорит, — молодице
новый быт не припас Церабкоп...
А взаправду, у нашего быта
столько было помех и прорех...
И в обед в заведеньях Нарпита
ложек нам не хватало на всех.
Но рукою не тронув покуда
ложку — бывший бурлацкий кумир,
злюсь: — На черта мне эта посуда?
Не босяк же я, а бригадир!..
Аж старик заморгал, как спросонок,
будто впрямь удивляясь тому.
— Ишь ты, значит, какая персона!
Ну и ладно. А спесь ни к чему...
Это баре, мол, были спесивы,
ели-пили на наши рубли,
управляли казною России,
нам на ложки сберечь не могли...
А теперича съехались к папам,
чтоб задать нам по-римски «капут».
Ну и мы, мужики, не культяпы,
пусть они там без нас проживут...
Сам запыхался со смеху старый,
гости с хохотом сбились в проход,
и Любава платочек достала,
прикрывая разинутый рот.
Кто-то сбоку мне шепчет с укором:
— Что ты, милай... Примай, не гордись.
То ж старшой наш... тот самый, который...
Землекоп... Мировой рекордист...
...Ни во что моей власти не ставя,
с той вечерки сбесились шабры,
как по сговору, прямо Любаве
всякий хлам волокут как дары.
То портняжьи, то прочие снасти,
чугунок, сковородку, поднос.
Даже кошечку дымчатой масти
незнакомый татарин принес.
Ожила, оснастилась каморка
для покоя, еды и питья...
Столик, тумбочка, синяя шторка —
все хозяйкино, только не я.
Я-то жизнь разумею толковей,
но и то удивляюсь порой:
вроде правда, что сердцем прикован
ко всему, что сработано мной.
И шагаю с бригадой по цеху,
долг приняв на себя за двоих...
А ведь домна мне вовсе не к спеху,
денег надо не больше других...
В самый полдень (мне это не ново),
работяг проводив на обед,
по внезапному, срочному зову
прихожу в цеховой комитет.
На железном (из сейфа) престоле
ждет меня председатель один.
— Чем, герой, — говорит, — недоволен,
чем цехком тебе не угодил?
Дескать, друг ты, а совести нету,
как безродный, женился тайком.
Даже мне не шепнул по секрету,
не чужие же — штаб да цехком!..
Ну и я называю причину:
— Вы ж начальник?! И свой да не свой...
— Так суди, — говорит, — не по чину,
чин — что бляха, а я — горновой!
Как отмаемся, выстроим домну,
сам сбегу из чинов на завод.
А покамест и мне, горновому,
в этом чине хватает забот...
И вручает на бланке со штампом,
чьим — не в счет, но законным вполне,
от ударного нашего штаба
в честь женитьбы приветствие мне.
А в придачу в конверте казенном
со следами рябых штемпелей
целых три промтоварных талона
с хлебной карточкой — женке моей.
— И живи, — говорит, — здесь хоть вечно
с жинкой под боком, как господин.
Хлебом-солью тебя обеспечим,
в первом доме квартиру дадим...
Лишь помыслил я с горькой досады
рассказать про Любавину блажь.
— Все, — смеется, — спасиба не надо,
домне скажешь... бетоном отдашь!..
А на зорьке с последним обходом
шел прораб, наказал по пути:
— Вы, егоровцы, всем своим взводом
не забудьте к кассиру зайти...