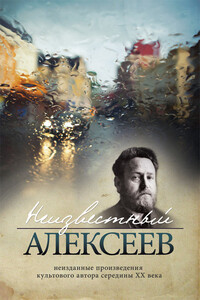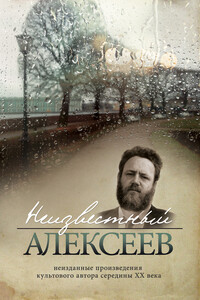В книге, которую Геннадий Алексеев назвал «Обычный час», ведется поиск необычного в обычном, живет опыт души художника, разведчика нравственных начал нашего времени, его беспокойств и надежд. Книга эта и выстрадана, и выстроена опытом и мастерством. Она едина в своем многообразии, в отражении и поэтическом осмыслении забот и загадок современного человека. Она добра и красива своими индивидуальными особенностями, на первый взгляд кажущимися (только кажущимися) необычными.
Геннадий Алексеев пишет мало свойственным современной поэзии белым стихом, но он владеет им в той самой мере, когда этот стих становится единственной формой выражения мысли, поэтического ощущения мира. Алексеев владеет этим стихом, как и положено мастеру, в совершенстве.
С этим стихом можно соглашаться или не соглашаться, но пройти мимо него нельзя, потому что в нем присутствует чудо поэзии, чудо индивидуальности поэта, идущего естественным для него путем. И мне кажется (думаю, не без основания), что книга «Обычный час» может оставить равнодушными только людей совершенно инертных к этому непривычному пути отражения жизни в поэзии.
Я не стану в доказательство своего утверждения цитировать стихи: цитировать их очень трудно, настолько они цельны законченностью мысли и формы.
Дело самой книги — убедить читателей в том, в чем убежден я. Эти стихи о красоте мира и благородстве человеческой души, и потому поле их действия велико.
Книга Геннадия Алексеева не назойлива, но человечна. Она приметна «лица не общим выраженьем». Это лицо запоминается надолго. По крайней мере, мне оно запомнилось с первого взгляда и навсегда.
Михаил Дудин
ДОЖДЬ НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ
Асфальт.
Когда дождь,
он скользкий.
Туристы.
Когда дождь,
они не вылезают из автобусов.
Милиционер.
Когда дождь,
Он прячется под арку.
И Александровская колонна.
Когда дождь,
она никуда не прячется.
Ей приятно
постоять на Дворцовой площади
под дождем.
Лошадь на Невском.
Идет себе шагом, тащит телегу.
Лощадь пегая и абсолютно живая.
И машины косятся на нее со злой завистью, и машины обгоняют ее со злорадством.
— Эй,— кричат,— лошадь!
— Ха,— кричат,— лошадь!
А лошадь идет себе шагом и не оборачивается.
Такая живая и такая хорошая.
Там женщины сидят себе и вяжут. Спокойные, сидят себе и вяжут.
А мне так страшно,
тошно,
неспокойно.
Эй, женщины!
Да бросьте же вязать! Глядите —
мир на проволоке пляшет! Он оборваться может каждый миг!
Но вяжут женщины, не слушая меня, и спицы острые в руках у них мелькают.
Я успокоился:
знать, есть какой-то смысл
в вязанье этом,
значит, женщинам виднее.
Ведь портить шерсть
они не будут зря.
— Да, да,
ничто не вечно в этом мире! сказал я себе.
Зашло солнце, и наступила
пора свиданий и любви.
И я увидел у ворот вечно юного Ромео, который что-то шептал в розовое ухо вечно любимой Джульетты.
.— Но ведь Шекспира же когда-то не было!— крикнул я им.
Они засмеялись.
НА МОСТУ
Глядел я долго, стоя на мосту, как вдаль текла Нева, как было ей вольготно течь на закат, как было ей смешно течь под мостами, то и дело огибая быки гранитные.
Тут выплыл из-под моста буксирчик маленький с высокой старомодной,
самоуверенно торчавшею трубой.
Глядел я долго, стоя на мосту, как уплывал он в сторону заката.
Труба его
дымила вызывающе.
ДЕМОН
Позвонили.
Я открыл дверь и увидел глазастого, лохматого, мокрого от дождя Демона.
— Михаил Юрьевич Лермонтов здесь живет?—
спросил он.
— Нет,— сказал я,—
вы ошиблись квартирой.
— Простите!— сказал он и ушел,
волоча по ступеням свои гигантские, черные,
мокрые от дождя крылья.
На лестнице запахло звездами.
-Г -ДГ
КУПОЛ ИСААКИЯ
Вечером
я любовался куполом Исаакия, который был эффектно освещен и сиял
на фоне сине-фиолетового неба.
И вдруг я понял,
что он совсем беззащитен.
И вдруг я понял, что он боится неба, от которого
можно ждать всего, чего угодно, что он боится звезд, которых слишком много.
t
И вдруг я понял,
что этот огромный позолоченный купол ужасно одинок и это
непоправимо.
Гнедой,
сытый,
с широким крупом,
галопом проскакал по Невскому.
Народ тепло приветствовал его.
Остановился на Аничковом мосту и долго разглядывал коней Клодта.
Иностранные туристы