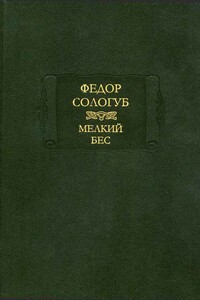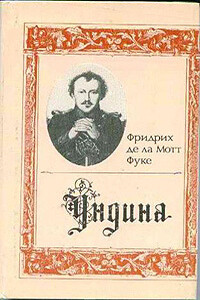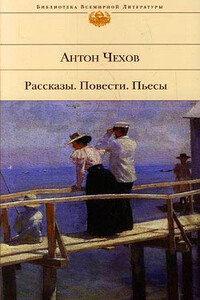«Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя…» — этот афоризм Чехова известен не меньше, чем знаменитые слова о краткости, и в работах о нем приводится не реже, чем эти слова. Но ведь это не просто афоризм, а ведущая мысль, «общая идея» чеховской поэтики — и великая теорема поэтики нового времени и нового повествовательного стиля. Так понял Чехова один из далеких и, может быть, самых тонких его последователей, Дж.Б. Пристли.
«Таким образом, он очень далек от большинства наших модернистов, которые с первой и до последней главы копаются в душе своих героев. Метод Чехова несомненно и есть тот метод, которым создается подлинно художественная проза, рассказ, как таковой, и именно этот метод, или, во всяком случае, близкий, будет применяться в лучших творениях художественной литературы будущего. Джойсы нашей литературы не открывают новой эпохи, как это думают многие. Они замыкают собой старую эпоху… Метод Чехова, где кажущаяся простая объективность положения служит тончайшей субъективности автора, дается нелегко. Под него нельзя подделаться. Тут нужен гений… То, что этот метод прививается в современной литературе, — самое большое счастье для нее».92
Иными словами, чеховская объективность представляет собою особую форму отношения к читателю, вовлеченному в образный мир повествования, чтобы восполнить недостающее и привнести в него то, чего в нем нет: свое личное («субъективное») видение и понимание цветов, образов, иносказаний и символов.
«Когда я точно не знаю автора, я наиболее бываю беспристрастен… и приемлю и отвергаю по чувству и по понятию моему…».93
Чехов подразумевал определенные литературные ассоциации, но возникнут ли они у читателя и у каждого ли из читателей они возникнут — в этом и состоит весь вопрос. Вспомним ли мы, заканчивая степное путешествие, знакомое «О Русская земле! Уже за шеломенем еси!», подумаем ли, перечитывая описание грозы, о том же «Слове»: «Что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями?» или же ничего не вспомним и ни о чем не подумаем — это, быть может, важнейшая из проблем поэтики Чехова, поскольку созданные им новые формы при всем своем совершенстве и простоте остаются бессодержательными, если нам нечего в них привнести.
В чеховских образах всегда есть «нечто ускользающее от определения, но понятное взору»,94 они «ходят по людям, как готовые сказуемые неизвестных подлежащих»,95 — но «подлежащих» ведь может и не быть среди читателей с иным вкусом, иным строем мыслей. Трудность не просто в том, что при чтении Чехова приходится подниматься на определенный интеллектуальный уровень, ниже которого все связи обрываются, а понимание исключено, но особенно в том, что это чтение приводит нас к сложным житейским коллизиям и проблемам, о которых хотелось бы, может быть, позабыть, оно пробуждает сознание личной ответственности и совесть, и мы говорим тогда о чеховских героях, о людях с тревожной, мятущейся совестью так, как будто эти люди — не мы…
Но, рассчитывая на читателя, Чехов должен был оставить для него какое-то пространство, создавая текст с лакунами между отдельными периодами, главками или частями, непривычный, отрывочный (почему то, а не это? почему это, а не то?); текст, удивлявший в свое время Льва Толстого как несомненный, но все же исполненный гармонии хаос. Отсюда все концепции чеховского импрессионизма и случайности, отсюда же и самая удачная среди них — «техника блоков», о которой в связи со «Степью» писал шведский филолог-русист Н. Нильсон.96
Приходится думать не о частях и частностях, но об особенных свойствах чеховской прозы, о ее краткости, оставляющей простор для воображения и памяти, о «белом тексте» между отдельными рассказами, позволяющем чувствовать связанность и единство повествования, об открытых финалах, о безответных вопросах в конце, как в «Доме с мезонином» («Мисюсь, где ты?»), как в «Степи», в «Даме с собачкой», и — в прямой или косвенной форме — едва ли не везде; о стилевой простоте чеховской фразы, в которой всегда чувствуется нехватка определений, и наше воображение пополняет ее в меру своей собственной содержательности и глубины.