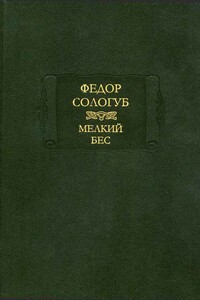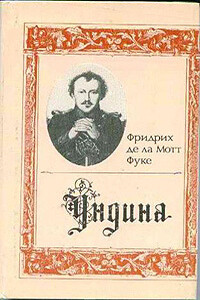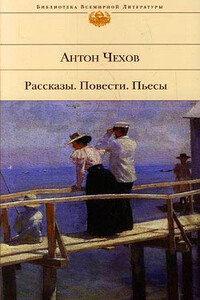Архетипы связаны с определенными словами или сочетаниями слов, им свойственными или присущими. В этом смысле можно говорить о свойствах слов и словосочетаний. Например, заглавному слову чеховской повести — «степь» — не соответствуют никакие современные значения, поскольку невозможно ни создать, ни даже вообразить себе некую «новую» степь, степь-новостройку; те пустоши, которые возникают в итоге экологических катастроф, так и называются — «пустоши», «пустыри»… Но историчными (точнее, архаичными) будут все образы и все слова, которые останутся в нашей памяти от детского или школьного чтения, от лично пережитого за наш скоротечный век; степь — это «печенеги», «половцы», курганы, каменные бабы, коршуны, музейные экспонаты; это «Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»: «Како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды, и тма, и свет…»
Столь же архаично, далее, и словосочетание «вишневый сад», поскольку оно олицетворяет память об отошедших поколениях, о тех, кто готовил почву, выращивал саженцы и потом высаживал и выхаживал их, оберегал от утренников, от сглаза, от зайцев, объедающих кору: «Неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов…» и т.д. (С., 13, 227).
Самый образ дерева по-своему летописен, поскольку дерево ведет счет годам, наслаивая год за годом кольца вокруг сердцевины. Дерево, и быть может вишневое дерево в особенности, олицетворяет и символизирует прошлое; в сущности, нельзя по-русски сказать так, как говорит чеховская Аня: «Мы насадим новый сад» (конечно, молодой, а не новый), поскольку «новый сад» — это какое-то нелепое «новое прошлое», столь же невозможное и ненужное, как «новая степь»…
Но, кроме того, «сад» — одно из очень немногих, быть может даже единственное в своем роде, слово, не имеющее в нашем языке никаких отрицательных или сомнительных значений; это, по-видимому, абсолютный положительный смысловой полюс русского словаря. И напротив, такие словосочетания, как «ударить по дереву топором», «подрубить корни», выражают высшую степень безнравственности и безрассудства.
«Тот, кто говорит архетипами, — писал Юнг, — подымает изображаемое им из мира единократного и преходящего в сферу вечного; притом же и свою личную судьбу он возвышает до всечеловеческой судьбы и через это высвобождает также и в нас благотворные силы, которые во все времена давали человечеству возможность выдерживать все беды и пережидать даже самую долгую ночь. В этом — тайна воздействия искусства».100
Истинным архетипом в чеховской повести является сама степь — великая родоначальница нашей истории, пристанище всех наших былей и небылиц. «Дед, великаны!» — кричит Егорушка в грозовую ночь, и голос его тонет в раскатах грома. Нет, не сказки няньки-степнячки, не картинки из книжки — эти образы от рождения существуют в подсознании чеховского мальчика как его душевное наследство и приходят ему на ум «сами собою», как только оказываются в своей стихии: «и как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!»
Чехов вернется к ним еще раз в самом конце жизни, подтверждая их родовую значительность:
«Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами…» («Вишневый сад», 1904. С., 13, 224).
И.Г. Птушкина
В.М. КОНАШЕВИЧ — ИЛЛЮСТРАТОР ЧЕХОВА
Художник-график Владимир Михайлович Конашевич (1888-1963) известен более всего как замечательный иллюстратор детской книги; его художественный мир входит в сознание современного человека с самых ранних лет жизни вместе с книгами, когда ребенок сам еще не читает, а только слышит слово. Между тем Конашевич, окончивший Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где он учился в 1908-1913 гг. у К.А. Коровина, С.В. Малютина, Л.О. Пастернака, обратил на себя внимание как талантливый иллюстратор русской классической литературы (он иллюстрировал произведения Пушкина, Тургенева, Достоевского и др.). Приметным явлением стали его рисунки к сборнику «Стихотворения А.А. Фета» (Пб., «Аквилон», 1922), для которого он сам «отобрал стихи и нарисовал к ним рисунки». Художник Д.И. Митрохин отметил в своих воспоминаниях (1964) это издание, как первое, где у Конашевича «счастливо слились иллюстрации с текстом».