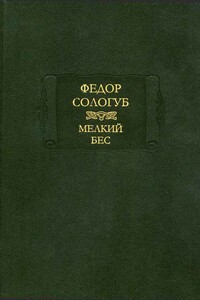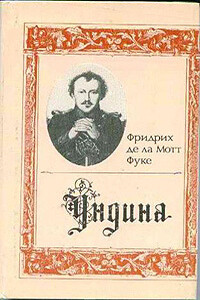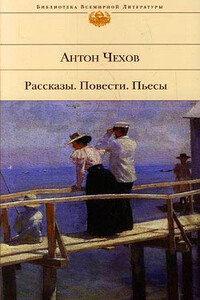Степь: История одной поездки - страница 53
Чеховские описания природы обладали свойством, какого не было у Тургенева: этот одушевленный пейзаж, глубоко и сложно соотнесенный с жизнью персонажей, избавлял от описаний тривиальных конфликтов и драм, от литературной рутины. Замещая подобные описания, пейзаж становился пространным, как, например, в «Ведьме», в рассказе «На пути», в «Несчастье», во многих других рассказах ранней поры, производивших столь сильное впечатление на людей с хорошим вкусом.
Здесь важны не отдельные строки, не «примеры», хотя бы и столь яркие, как, скажем, этот: «Река спала. Какой-то мягкий, махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит» («Агафья», 1886. С., 5, 33). Важно все, и филолог, изучающий Чехова, здесь-то и сталкивается с трудностями, воистину непреодолимыми. Нет возможности ни исчерпать весь материал, ни ограничиться подборкой «примеров», ни тем более свести весь анализ к одному-единственному примеру. Выборочное цитирование в принципе бессистемно, в то время как при изучении Чехова по-настоящему важно, может быть, только одно: принцип системы, охватывающей весь материал.
Мир образов чеховской драматургии и прозы — образов, «рождающих мысль»… Кажущийся столь обыденно ясным, исполненный такой глубокой и в то же время обманчивой простоты, этот мир озадачивал и старшее поколение русских читателей — в лице того же, например, Н.К. Михайловского, и таких новаторов, каким предстал на рубеже столетий М. Горький. Беда еще и в том, что у литературной критики, а затем и у филологов той поры не было опыта в изучении художественных явлений, столь целостных в своем многообразии, как не было и ясного представления о системе. А при сколько-нибудь углубленном изучении Чехова необходимо не только сплошное изучение материала, но понимание того, что сама традиция системно реализована в чеховском слове, ассоциативном, как бы помнящем о своем происхождении и часто указывающем на него с адресной точностью.
Одушевление природы — древний, если не древнейший прием, больше того — источник символов и метафор, первородный родник искусства, казавшийся новым, поскольку путь к нему в те времена был хорошо забыт. Чехов, таким образом, не столько создавал какие-то небывалые приемы письма, сколько возрождал к жизни истинные ценности искусства, обретавшие в его творчестве современную форму.
Но и самые одухотворенные пейзажи оставались бы не более чем стилевым украшением, если бы не имели основы в сюжете, который, как писал Чехов, «должен быть нов», в содержательных пластах повествования. В ранних рассказах они обычно сопутствуют персонажам, наделенным высокой духовностью, особой страстью к природе, с которой они — с охотничьим ли ружьем в руках или с удочкой — остаются наедине: «И Господи, что оно такое за удовольствие! Поймаешь налима или голавля какого-нибудь, так словно брата родного увидел» («Мечты», 1886. С., 5, 401).
Эти лица особенно привлекательны потому, что бескорыстны: герою рассказа «Агафья», например, важен не улов, важно перехитрить природу, поймав маленькую рыбку на большой крючок, или, того лучше, соловья без всяких силков и тенет, а голыми руками. Чехову, когда он писал эти рассказы, рисовались яркие, разносторонние, талантливые люди. Тот же рыболов оказывается, например, страстным читателем: «У другого какого человека только и есть удовольствия, что водка и горлобесие, а я, коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку. Читаю и все плачу, плачу…» («Мечты». С., 5, 398).
Это были очень разные люди (Лихарев из рассказа «На пути» не имеет ничего общего с Савкой из «Агафьи», с красавицей дьячихой из «Ведьмы»), связанные между собою лишь одной общей чертой: они, независимо от обстоятельств их земного бытия, неотторжимы от земли, от весен и зим, от рек и степных дорог, и, чтобы понять их, нужно читать страницы пейзажных описаний. Ночная вьюга, заметающая путь, столь же важна в рассказе «На пути», как и в «Ведьме».
В литературе действуют законы, подобные закону сохранения материи и энергии в мире физическом. Здесь ничто не беспочвенно, ничто не может возникнуть из ничего или в ничто обратиться. Так и чеховская «Степь» восходит не просто к нескольким ранним рассказам, к таганрогским окрестностям, к поэтическим впечатлениям детских и гимназических лет, но к историческим истокам бытия, к тем первоначальным художественным прообразам, которые наследуются из поколения в поколение и от которых не могут быть отлучены писатели, занимающие в литературе не случайное место.