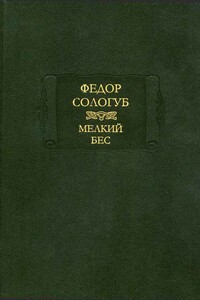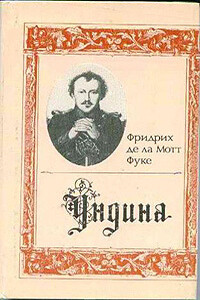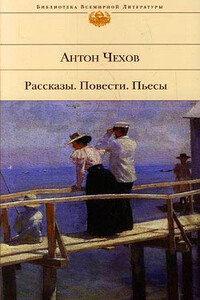Между тем Чехов, тогда студент, предназначал свое творение для сцены Малого театра, для Ермоловой. И лишь полвека спустя, с появлением кинематографа и так называемого «режиссерского» театра, стало выясняться, что это вовсе не беспомощно-детская, а новаторская пьеса, предвещавшая появление в искусстве новых форм.
Пьеса Малым театром принята не была, и Чехову, судя по всему, дали жестокий урок, о котором он помнил до конца жизни: «Этого свинства, которое со мной было сделано, забыть нельзя… Слишком много было тяжелого… Да знаете ли вы, как я начинал? Да и до сих пор…».39
Для истории литературы важно то, что пьеса была написана до появления в «малой прессе» юмористических рассказов и сценок Антоши Чехонте, важно как раз крушение юношеских надежд и иллюзий. Что схема постепенной художественной эволюции неверна, можно было бы, впрочем, догадываться и раньше. У большого художника не может быть «постепенной» судьбы. Невозможно «понемножку» стать Грибоедовым и Толстым. Здесь ничего не значат ни великое усердие, ни труд: «Надо чем-то быть, чтобы что-то сделать» (Гете).40
Нельзя сказать, что судьба Чехова не сложилась — просто она сложилась не сразу, она была отложена и на какое-то время прервалась, и, печатаясь в «Стрекозе» и «Осколках», Чехов сохранял нечто важнейшее для себя: «Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, Бог знает почему, берег и тщательно прятал» (Д.В. Григоровичу, 28 марта 1886 г.; П., 1, 218).
«Степной» замысел восходит к первоистокам творческой биографии Чехова; он появился задолго до «Егеря», очаровавшего Григоровича своей поэтичностью, до рассказа «Счастье», ставшего своеобразным введением к «Степи». В первой пьесе, работа над которой начиналась еще в Таганроге, есть «дорогие образы и картины» и эти мечты о деятельности, широкой, как степь: «Нам бы с тобой пустыню с витязями, нам бы с тобой богатырей с стопудовыми головами, с шипом, с посвистом!» (С., 11, 41). Есть здесь и разбойничьи легенды, и помещики, и купцы, и даже корчмарь — правда, сильно разбогатевший, и яркий приазовский колорит, столь важный в замысле повести.
3
Прижизненная критика не связывала Чехова с традициями «малой прессы», понимая, что серьезных — да и вообще каких бы то ни было — традиций в этом окололитературном мирке просто не могло быть. Это уж в новые времена заговорили о «школе Лейкина», то поднимая «малую прессу» до чеховских высот, то опуская Чехова до тематических и стилевых низменностей юмористической журналистики.
«Я был сначала поражен Вашей неиспорченностью, потому что не знал школы хуже той, которую Вы проходили в «Новом времени», «Осколках» и проч. Потом понял, что иначе и не могло быть, — эта грязь не могла к Вам пристать», — писал Н.К. Михайловский Чехову 15 февраля 1888 г., прочитав «Степь» в корректурных листах.41
Ярчайшая особенность и своеобразие рассказов Антоши Чехонте заключены в том, что они полемически заострены по отношению к тому заурядному фону, на котором печатались; они тяготеют к классической литературной традиции, в них множество обращений к слову Достоевского, Тургенева, Льва Толстого, парафраз из особенно любимого — и совершенно неуместного в юмористической журналистике — Шекспира. Здесь вообще много всякого рода переосмыслений, иносказаний, прямых и скрытых цитат, неожиданных и остроумных применений «старой» литературы, казалось бы, вышедшей из моды и пережившей себя, как теперь иному читателю представляется далеким от современной литературной моды и сам Чехов.
Высокой степенью литературности была отмечена уже первая пьеса, из которой можно извлечь целый словарь имен и цитат — от древнегреческих трагедиографов до Гете, Гейне, Ауэрбаха, Гоголя, Тургенева, Некрасова.
Проза и драматургия молодого Чехова погружены в контекст предшествующей литературы, цитатно соотнесены с классическим русским романом, с книгами, которые Чехов знал едва ли не наизусть, на которых учился — не только мастерству, но также терпению и надежде.
В этом отношении особенный интерес вызывают описания природы, столь обычные в прозе молодого Чехова и столь неуместные не только в «Осколках», но даже и в «Петербургской газете», где появился «Егерь». Собственно, он-то, этот пейзаж, и тронул Григоровича, не ожидавшего увидеть на этих страницах ничего подобного, как удивил позднее и Левитана: «…я внимательно прочел еще раз твои «Пестрые рассказы» и «В сумерках» <…> пейзажи в них — это верх совершенства, например, в рассказе «Счастье» картины степи, курганов, овец поразительны» (июнь 1891 г.).