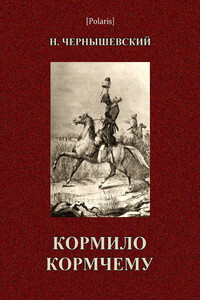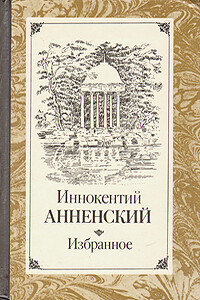Превращение Вареньки в законную супругу Лермонтова все равно что превращение Тамары в «семипудовую купчиху», о которой может мечтать не Демон, а только черт с «хвостом датской собаки».
Тамару от Демона отделяет стена монастырская, в сущности та же стена христианства, которая отделила Вареньку от Лермонтова. Когда после смерти Тамары Демон требует ее души у Ангела, тот отвечает:
Она страдала и любила,
И рай открылся для любви.
Но если рай открылся для нее, то почему же и не для Демона? Он ведь так же любил, так же страдал. Вся разница в том, что Демон останется верен, а Тамара изменит любви своей. В метафизике ангельской явный подлог: не любовь, а измена любви, ложь любви награждается христианским раем.
Этой-то измены и не хочет Лермонтов и потому не принимает христианского рая.
Я видел прелесть бестелесных
И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал.
Не узнавал маленького родимого пятнышка над бровью Вареньки.
Христианской «бестелесности», бесплотности не принимает потому, что предчувствует какую-то высшую святыню плоти.
«Я, может быть, скоро умру, и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни – я думаю только о тебе», – пишет Вера – Варенька Печорину – Лермонтову. И он отвечает ей из того мира в этот, оттуда сюда:
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья,
Я не забыл.
Есть ужас, который для него ужаснее христианского ада:
Смерть пришла, наступило за гробом свиданье,
Но в мире новом друг друга они не узнали.
Вот чего он не может простить христианству.
Покоя, мира и забвенья
Не надо мне!
Не надо будущей вечности без прошлой, правды небесной без правды земной.
Что мне сиянье Божьей власти
И рай святой!
Я перенес земные страсти
Туда с собой.
Смутно, но неотразимо чувствует он, что в его непокорности, бунте против Бога есть какой-то божественный смысл.
Когда б в покорности незнанья
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил.
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться.
Должно свершиться соединение правды небесной с правдой земной, и, может быть, в этом соединении окажется, что есть другой, настоящий рай:
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел нежный,
И где тоски ее мятежной
Душа узнать не может вновь.
Недаром же и в самом христианстве некогда был не только небесный идеализм, но и земной реализм, не только умерщвление, но и воскресение плоти.
Ежели плоть Христа воскресшего – иная, «прославленная», и вместе с тем точно такая же, как при жизни, – даже до крестных язв, по которым узнали Его ученики, – то, может быть, и Варенька воскреснет иною, более прекрасною, и вместе с тем точно такою же, даже до маленького родимого пятнышка над бровью, по которому ее узнает Лермонтов. Может быть, и там, как здесь, какие-то веселые дети будут играть с нею и петь: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка!» И со «звуками небес» сольются эти не «скучные песни земли». И, может быть, Лермонтов примет этот настоящий рай. А если примет, то конец бунту в любви, конец богоборчеству в богосыновстве.
Но для того чтобы этого достигнуть, надо принять, исполнить до конца и преодолеть христианство. Трагедия Лермонтова в том, что он христианства преодолеть не мог, потому что не принял и не исполнил его до конца.
Он борется с христианством не только в любви к женщине, но и в любви к природе, и в этой последней борьбе трагедия личная расширяется до вселенской, из глубины сердечной восходит до звездных глубин.
«Когда я его видел в Сулаке, – рассказывает один из кавказских товарищей Лермонтова, – он был мне противен необычайною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука. Гарцевал на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Собрал какую-то шайку грязных головорезов. Совершенно входя в их образ жизни, спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода».
«Я находился в беспрерывном странствии, – пишет Лермонтов Раевскому. – Одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское... Для меня горный воздух – бальзам: хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит, ничего не надо в эту минуту».