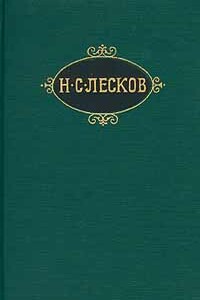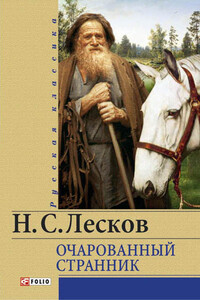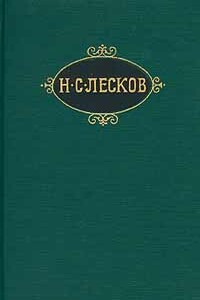Как от этого одни сами отбивались, а другие прочих сдерживали, это представляет картинку, или, лучше сказать, ряд картинок, которые, может быть, не скучно будет теперь перепустить перед глазами, по случаю возбужденною г. Кокоревым интереса к “истории о генералах”.
В нашем флоте в самую блестящую его пору, при командирах, имена которых покрыты неувядаемою славою и высокими доблестями чести и характеров, все избегали употребления титулов в разговоре. Там крепко жил простой и вполне хороший русский обычай называть друг друга не иначе, как по крестному имени и отчеству. Не только капитан корабля, но и адмирал, командующий эскадрою, называли офицеров по имени и отчеству, а офицеры точно так же называли своих старших, то есть их именами и отчествами, а не превосходительствами. Таких славных героев, как Нахимов и Лазарев, подчиненные с семейною простотою называли в разговоре Павел Степанович, Михаил Петрович, а эти знаменитые адмиралы в свою очередь также называли по имени и отчеству офицеров. По титулам чина или по уряду должности величали только тех, кого не знали как звать по имени, и это считалось за неудобство, для избежания которого старались немедленно узнать имя и отчество человека. Такого простого обычая держались все, и флот дорожил этою простотою; она не оказывала никакого дурного влияния на характер субординации, а напротив, по мнению старых моряков, она приносила пользу.
“Чрез произношение имени, — рассказывают старые моряки, — все приказания начальника получали приятный оттенок отеческой кротости и исполнялись с любовью; а ответы подчиненных с таким же именованием старшего придавали всяким объяснениям и оправданиям сыновнюю искренность”.
Многие почтенные люди из старых моряков вспоминают об этом обычае с большим сожалением, что он вывелся и заменился отношениями “общеармейского образца”. Но стоит ли это сожаления на самом деле?
Моряки всегда немножко суеверны и имеют много примет, но если верить их приметам, то они, кажется, имеют основание жалеть, что их старый морской обычай “семейности” заменился “образцом общеармейской форменности”.
“Во все это время, пока мы говорили друг другу по-человечески, — замечают моряки, — флот наш не знал служебных злоупотреблений низкого свойства: офицеры гнушались лжи, и не было ни взяток, ни обманов. Мы себя берегли от этого”.
Обычай называть друг друга по именам стали подрывать нововведениями в балтийском флоте, “поблизости к Петербургу”, но на Черном море именословие продолжало держаться до самой севастопольской катастрофы, когда черноморский флот уничтожился и остатки черноморских морских офицеров пошли вразброд. В печальном рассеянии они позабыли старые предания своей семьи, и те, которые смешались с балтийцами, научились у них употреблять в разговоре титульные обороты.
Утраченный “обычай доброй простоты” оставался дорог многим из моряков и имел своих маньяков, для которых представлял своего рода мистическое значение. В доказательство его живучести стоит воспомянуть об одном из таких маньяков, каким был не очень давно умерший контр-адмирал Андрей Васильевич Фрейганг. Это был превосходнейший человек, которого кто знал, тот его и любил и уважал за его необыкновенную чистоту и добрую душу. Его знали множество людей, и из них, конечно, многие еще живут нынче. Он был “политик вне партий” и “золото без лигатуры”; ему был друг славянофил Гильфердинг, и он пользовался особенным уважением Каткова. К Фрейгангу Катков чувствовал сердечное влечение и не раз говаривал: “чтобы немножко себя освежить, надо в Фрейганга посмотреться”. Худой, слабый здоровьем, но живой, подвижной и беззаветно добрый старичок, обвязанный гарусным шарфиком и с кортиком, который постоянно ерзал на его тощем тельце и сбивался с бока назад или наперед, Андрей Васильевич всегда о чем-нибудь хлопотал или кого-нибудь устраивал. Он беспрестанно являлся где-нибудь “просителем за людей”, и притом просителем самым неотступным, настойчивым и бесстрашным. Чуть, бывало, при нем скажут о чьем-нибудь горе или несчастье, он сейчас придет в беспокойство — слезы на глазах, и начинает себя допрашивать: “Кого я знаю? Кто может помочь? К кому побежать?” И как только вспомнит — сейчас “побежит”. Но о себе и о своем семействе он не просил никого и жил на самые крошечные средства. Словом, это был превосходный и редкий человек, которого при жизни его называли “праведником” и “Нафанаилом, в нем же лести несть”! Между тем в ряду забот Фрейганга было большое печалованье об исчезновении простоты во взаимных отношениях во флоте, — он не мог примириться, что у них “прежде говорили друг с другом по-человечески, а потом стали упоминать потитульно”. В этом Фрейганг видел “начало болезни”, которая непременно принесет большой вред всему организму. Михаил Ник<ифорович> Катков один раз слушал, слушал, как Фрейганг об этом рассказывал, и говорит после: