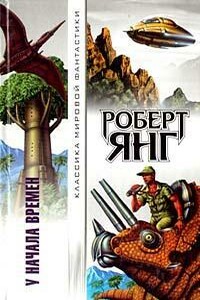Доктор Лэнгли рассмеялся. Мисс Стонтон рассмеялась. Кто-то рассмеялся.
— Она? Влюбилась? — проговорил голос доктора Лэнгли.
Снова смех. Удаляющиеся шаги.
Тишина…
Она очень тихо лежала на своей узкой койке. Лежала, заложив руки за голову и неотрывно глядя на маленький белый квадрат потолка. Посреди потолка голая флуоресцентная трубка жутко улыбалась ее некрасивости.
Она долго лежала так, с сухими глазами, неподвижно. Потом встала и оделась. Как обычно, оделась тщательно, но зачем? Все это было совершенно бесполезно.
Когда после обеда она вынесла на улицу свой письменный столик, то не забыла прихватить пресс-папье — самое тяжелое, какое нашла, — и аккуратно положила его точно по центру верхнего листка. И очень сосредоточенно принялась печатать.
Сначала она разобралась с заметками мистера Смизерса, потом доктора Лэнгли. И только оказавшись в гуще несвязных по-черкушек мисс Помрой, она подняла взгляд от машинки, и тот пустился в странствие по равнине и манящим холмам.
За самым дальним холмом в зеленой долине пряталась деревня. Прелестная деревня с розовыми домиками и алебастровыми улицами, с высокими иглистыми шпилями церквей. В такую деревушку можно войти без страха. В такой деревушке, кем бы ты ни был и что бы ни искал, тебя никогда не прогонят, никто не станет над тобой смеяться…
Она сердито заставила себя вернуться к несвязным заметкам мисс Помрой. Поначалу она не заметила, что пресс-папье исчезло. А когда заметила, было уже поздно. Она хотела схватиться за бумаги, но ветер уже ждал и торжествующе вынырнул из-за корабельного бока. И вот уже она снова танцевала, ее тело было свободно на ветру, мягкие волосы развевались у лица.
Когда она вернулась к столу с бумагами, Шарж уже был нарисован на обычном месте, а пресс-папье появилось снова.
— Мне хотелось еще раз увидеть, как вы танцуете, — сказал он.
Она положила бумаги на столе и прижала их пресс-папье. Потом взглянула в круглые глаза.
— Я вас ненавижу, — сказала она. — И больше не желаю вас видеть! Никогда!
Кружки глаз загадочно взглянули на нее. Гротескный человеческий контур, казалось, дрожал на ветру.
— Не понимаю, зачем вы вообще ко мне подошли, — продолжила мисс Браун. — Вы только все испортили, стало еще хуже. Зачем вы это сделали? Зачем?
— Потому что мне хотелось посмотреть, как вы танцуете.
— Но вы же и так видели, как я танцую… собираю бумаги. Вам не нужно было для этого рисовать себя в дурацком виде. Не нужно было заговаривать со мной!
— Мне хотелось сказать вам, как прекрасно вы танцуете.
Она беспомощно стояла там.
— Я вообще не умею танцевать, — наконец проговорила она. — Я знаю, что не умею. Никто никогда не хотел смотреть, как я танцую. Никто никогда не хотел танцевать со мной. Никто никогда не приглашал меня.
— Еще я хотел сказать вам, как вы прекрасны.
Она вдруг расплакалась. Оставила свое тело стоять на летнем ветру, а сама вернулась на Выпускной с Одиночеством. Потом — в апрельский вечер на свое первое свидание, посидела в парке на скамейке под апрельским дождем и все ждала, ждала, ждала, а ледяной дождь промочил ее светлое выходное пальто, а холодный страх прокрадывался в ее сердце. Наконец она улеглась на свое узкое ложе и услышала голос доктора Лэнгли: «Чудище». Голос доктора Лэнгли раздавался снова и снова: «Что нашло на чудище?»
— Я не удосужился сказать вам, — сказал Шарж, — что в своем обществе я эксперт.
В его голосе — если это был голос — появилось что-то, чего не было раньше.
Она не ответила, и он продолжил:
— Я эксперт по красоте. Это моя функция в моем обществе, как ваша функция в вашем обществе — превращение крошечных символов в вашей машине в осмысленные последовательности на бумаге.
Ее глаза высохли, но на щеках блестели следы слез. Ей было муторно и стыдно и хотелось убежать и спрятаться на корабле в своей каюте; хотелось запереть дверь и…
— Не уходите, — сказал Шарж. — Прошу вас, не уходите. Я хотел бы рассказать вам о красоте.
— Хорошо, — ответила она.
— Красота — результат восприятия симметрии. Результат меняется пропорционально полноте восприятия. Ведь само собой разумеется, что истинный результат дает только полное восприятие.