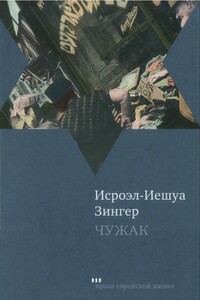С Крымского полуострова через Перекоп двинулась на богатые украинские земли белогвардейская армия барона Врангеля. Несмотря на то что она была еще куда как далеко, ее появления уже ждали на дороге в Полтаву. Я знал, что у меня есть все возможности найти себе место в братской могиле, среди солдат интернационального полка, зарубленных на чужой земле. И я оставил на самой середине протоколы суда над убийцей Миколюком, в которые втискивал мои еврейские буквы, и пустился наутек из южного местечка, которое в тот год небеса благословили тыквами.
Моей семье пришлось уехать с военным госпиталем, который временно эвакуировали в более безопасное место. Мне нельзя было уехать с госпиталем легально. Ехать нелегально тоже было невозможно. Все поезда были заняты под армейские части и эвакуируемые учреждения. Повсюду было объявлено военное положение. Все учреждения теперь подчинялись военным. Чтобы получить разрешение на выезд из этих мест, я отправился в уездную ЧК: только она могла повлиять на железнодорожное начальство. В прокуренной комнате, полной мух, которые жужжали вокруг керосиновой лампы и чернильницы, стоявших на грубо сколоченном длинном столе, сидел пепельноволосый тип с глубокими, резкими и темными морщинами на чугунном лице. На нем были солдатские штаны и фуфайка, а его широкие ступни были босы. Сапоги стояли рядом с ним так прочно, словно ноги все еще были вдеты в голенища. На столе лежали нарезанный хлеб и револьвер, такой же твердый и черный, как этот босоногий человек, который выглядел так, будто много лет был шахтером или сталеваром на металлургическом заводе.
— Чего тебе? — спросил меня босоногий, обращаясь ко мне на «ты».
— Я хочу видеть товарища комиссара, — сказал я.
— Это я, чего надо? — ответил босоногий тяжелым, спокойным, неприветливым голосом.
Я рассказал ему, как очутился здесь и что хочу вернуться в Киев, откуда враг был уже выбит и теперь его гнали дальше.
Босоногий поглядел на меня угрюмым взглядом, полным недоверия и подозрений. Он стал задавать мне короткие, рубленые вопросы:
— Кто ты? Откуда? Чем занимаешься?
— Пишу.
— В каком советском учреждении ты пишешь?
Я разъяснил ему, что я не писарь в учреждении, а писатель. Он не понял. Я растолковал ему на все лады, что пишу книги, сочиняю истории. Его глаза глядели на меня со все большим недоверием.
— Зачем ты все это пишешь? — хотел он знать. — Кому это нужно?
Я и сам не знал, зачем я все это пишу. Еще меньше я знал, кому это нужно. Никому не были нужны мои первые пробы пера, особенно в такое время. Мне нечего было ответить. Босоногий человек окинул меня с головы до ног своим угрюмым взглядом.
— Откуда ты родом? — сурово спросил он. — Из какой страны?
— Из Польши.
Он аж рот раскрыл от удивления, показав крупные дожелта прокуренные зубы.
— Во как? Из Польши? — переспросил он с улыбкой, застывшей на чугунном лице.
Война Польши с Россией была в самом разгаре.
Босоногий позвал из соседней комнаты какого-то человека, который, вероятно, был его правой рукой. Насколько неряшлив и угрюм был босоногий, настолько его товарищ был разодет в пух и прах. Это был высокий молодой кавказец в черкеске, украшенной ножичками, кинжалами, наборным серебряным поясом и разными другими цацками. Широкий в плечах, узкий в талии, с точеными, легкими ногами в мягких сапогах, в лихо заломленной папахе, перекрещенной золотыми галунами, легкий и порхающий, он выглядел, как опереточный кавказский красавец. Он глянул на меня большими черными глупыми глазами и рассмеялся, показав все свои белоснежные зубы.
— Он — настоящая птица, — сказал он на комичном русском, — польская ворона.
Кавказец хотел было толкнуть патетически-нелепую, полную словечек уличных ораторов речь о революции и войне, но босоногий прервал его. Вместо речей он позвал вооруженного красноармейца и приказал ему пойти со мной туда, где я жил, и забрать все мое имущество. Кроме судебных протоколов об убийце Миколюке, у меня ничего не было. Босоногий вместе с кавказцем долго и упорно рассматривали еврейские буквы, которые я втиснул между русских строк, и таинственно переглядывались.