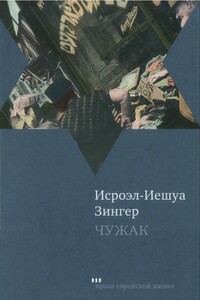2
После каждой субботы Пинхас Фрадкин снова принимался укладывать свой скудный скарб в солдатский кожаный ранец, доставшийся ему в наследство от убитого австрияка, и протягивал руки к родителям, чтобы проститься с ними перед отъездом в Одессу. И каждый раз его мать выбрасывала вещи из ранца и клялась всеми клятвами на свете, что не позволит ему уехать. Вместе с матерью его удерживали и отец-раввин, и многочисленные — мал мала меньше — братья и сестры, и соседи-колонисты, а среди них настойчивее всех — самый старый и самый уважаемый колонист, реб Ошер, староста.
Пинхас Фрадкин ничего не мог поделать с той добротой, которая обступила его дома после четырех лет нужды и ненависти, с тем теплом, которое кутало его и ласкало, словно домашняя перина, которой его с головы до пят перед сном укрывала мать.
С той самой минуты, как Пинхас Фрадкин пришел домой пешком со станции и мать обхватила его голову и прижала к своей большой, мягкой груди, он почувствовал это тепло и связь, которую так просто не оборвешь. От матери пахло парным молоком, кисло-сладким хлебом с тмином, пахло постельным бельем и телом, которое родило и вскормило множество детей. Она ни за что не хотела отпустить грязную солдатскую голову от своей вздымающейся груди, хотя ее мужу и детям тоже не терпелось обнять вернувшегося.
— Рохл, дай мне поздороваться с Пинхасом, — просил муж.
— Мама, дай нам посмотреть на Пинхаса, — требовали дети.
— Пинеле, сыночек мой, — шептала Рохл Фрадкина и целовала колючие, заросшие щеки и окрепшие, загрубевшие руки своего сына.
Реб Авром-Ицик, деревенский раввин, не слишком долго лобызался с сыном. Не очень-то он умел целоваться, стыдился этих бабьих штучек и, целуя сына, попадал ему своими заросшими бородой губами больше в нос, чем в губы. Но его добрый, нежный, голубиный взгляд, его теплые, мягкие руки были исполнены счастья не меньше, чем поцелуи и объятья матери. Лица обнимавших и целовавших его братьев и сестер — мал мала меньше — так и лучились радостью. Пинхас узнал не всех, так сильно они изменились за эти несколько лет, особенно младшие мальчики и девочки, которые очень выросли и стали совсем большими. Каждый миг он чувствовал на себе другие руки, другие губы, полные губы, какие были у всех Фрадкиных. Только старшая сестра, Шифра, расцеловавшись с братом, произнесла слова, которые никто не решался сказать, хотя они были у всех на уме:
— Пинхас, может, умоешься?.. Я налью тебе шайку горячей воды…
Пинхас покраснел от слов сестры, которые напомнили ему о том, как он грязен, хотя сам он этого уже не чувствовал. Теперь ему ничего не хотелось — ни есть, ни разговаривать — только мыться. Сперва он помылся одной шайкой воды, но, увидев, что вода почернела от первых же споласкиваний, попросил согреть вторую, третью. Когда же, после этой домашней помывки, Пинхас все-таки не смог отскрести многолетнюю грязь, отец велел мальчикам истопить деревенскую микву, хотя посреди недели ее обычно нагревали только тогда, когда какой-нибудь еврейке требовалось омовение. В горячей тесной микве, куда нужно было спускаться по множеству кривых, шатких и скользких деревянных ступенек, Пинхас наконец смыл всю грязь со своего намыкавшегося тела. Отец сам плескал горячую воду из ковша на каменку и охаживал сына веником с головы до пят. Пинхас аж сопел от удовольствия.
— Крепче, папа, — просил он, — выбей из меня всё, все четыре года грязи, ненависти и боли.
Реб Авром-Ицик сгреб грязную солдатскую одежку сына, от рубахи до рваной шинели, и бросил в пылающую банную печь.
— Шекец тешакецену[84], — произнес он, как полагается, когда сжигают идоложертвенное, и подал сыну хоть и залатанное, но чистое белье, а также его старые штаны и тужурку, которые стали ему малы, но зато были целы и вычищены.
Первые дни Пинхас, чистый и обновленный, только и делал, что отъедался и отсыпался. Ему всего было мало: и вкусного хлеба с тмином, и субботней халы, и яичного печенья, и пирожков с луком, что пекла для него мать. Он уплетал каши на мясном бульоне, тушеную баранину, рубец, фаршированную селезенку, кишку, куриные потроха, которые готовили для него сестры. Он буквально купался в парном молоке, масле и сливках и пропитался жиром куглов. Эти куглы соседки присылали ему на дом по субботам со своими смущенными дочками, которые, едва выговорив «вам и гостю вашему», убегали быстрее ветра.