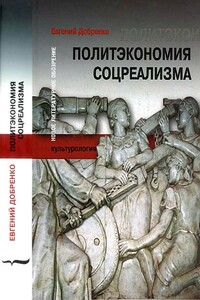При том, что Эренбург был, несомненно, одной из центральных фигур советской литературы военного и послевоенного периодов, а его роль в рассматриваемом здесь еврейском сюжете была одной из ключевых, Костырченко умудрился в огромной книге о послевоенном антисемитизме в СССР упомянуть его имя лишь несколько раз и почти всегда в негативном контексте. Увы, все сказанное Борисом Фрезинским, посвятившим специальную работу полемике с необъективностью Костырченко в отношении Эренбурга в его предыдущей монографии «Тайная политика Сталина»[8], может быть повторено и в связи с последней книгой историка.
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ КОСМОПОЛИТИЗМА: ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАСПАД
Мы говорили о документах культурной и политической истории, затем — об исторических исследованиях и, наконец, о литературе. Она не просто предмет, которому посвящена книга Натальи Громовой «Распад: Судьба советского критика: 40—50–е годы»[9]. Она — и способ изложения, поскольку проект Громовой представляется мне скорее беллетристическим, чем собственно научным, хотя и основанным на архивах, но более на субъективно–лирическом их освоении, чем на сугубо аналитическом. Громова использовала прием монтажа материалов — писем, дневников, воспоминаний, — опираясь на личный архив Марии Белкиной, вдовы главного героя книги, одного из ведущих советских критиков сталинского времени Анатолия Тарасенкова. Монтаж этот нередко сумбурен и ассоциативен. Потеряв «бдительность», легко пропустишь переход от одной многостраничной цитаты к другой, а от нее — к авторскому тексту. Работа Громовой страдает подчас от описательности, а иногда и не очень хорошей беллетристичности. Ее манера работы с документами текстологически отнюдь не безупречна, а выводы не всегда глубоки. И все же Громова позволяет погрузиться в эпоху, услышать ее голоса, сопоставить их, ощутить атмосферу времени.
При всех недостатках стиля и композиции, читатель наконец‑то получил книгу, в которой широко дан литературный быт позднего сталинизма через биографию сугубо советского литературного персонажа. Важен сам факт появления книги, в центре которой — не классик, даже не фигура первого ряда, а заведомо второстепенный персонаж, хотя и занимавший важное место в перевернутой иерархии сталинского литературного истеблишмента. При этом задача автора отнюдь не разоблачительно–обличительная и не апологетическая (на эти две категории, увы, делится большинство современных литературно–биографических работ о советской эпохе). Лишь одна книга, замысел которой близок к работе Громовой, может стать с ней рядом — вышедшая в США более 10 лет назад книга Томаса Лахусена о Василии Ажаеве[10], которая до сих пор остается образцом в том, что касается проницательности чтения и глубины интерпретации писательского архива.
Книга Громовой состоит из четырех частей. Первая посвящена периоду с конца войны до космополитической кампании (а также — жизни и работе Тарасенкова до войны), вторая — эпохе борьбы с космполитами, третья — его работе в «Новом мире» (в центре которой оказалсь драматическая история публикации романа Гроссмана в «Новом мире») и, наконец, четвертая — о последнем периоде жизни Тарасенкова (он умер в 1956 г.). В центре книги, в отличие от рассмотренных выше работ, — отнюдь не еврейский сюжет, а индивидуальная судьба критика. Однако книга прошита еврейской темой, поскольку ею была прошита сама позднесталинская эпоха, начиная с борьбы Тарасенкова против сталинского ставленника в Союзе писателей Поликарпова, который еще в 1945 г. наставлял работавшего в редакции «Знамени» критика не печатать в журнале «слишком много авторов с нерусскими фамилиями» (не забывая при этом добавить: «Не думайте только, что я антисемит», с. 22).
Рассказанная Громовой история многослойна. В ней показаны разные поколения со своими неизжитыми травмами, ненавистью, завистью, взаимными обидами, неоправданными амбициями; люди, пришедшие в литературу в 1920–е гг., столкнулись с новым поколением, пришедшим в 1930–е и после войны. У одних был культурный багаж, у других за плечами пустота, у одних — опыт войны (да и он был разным!), у других — эвакуации, у одних — опыт аппаратного выживания, у других — неумение приспосабливаться, одни были талантливы, другие — бездарны. Да и поколенческая разница чрезвычайно важна. Пришедшие в литературу из «глухих углов» люди, подобные Фадееву или Тарасенкову, хотя никогда не стали большими писателями или критиками, но окунулись в 1920–е гг. в настоящую литературу. В дальнейшем они бесконечное число раз предавали всех и вся, но тайную любовь к этой литературе в себе сохранили (в случае Тарасенкова это особенно ясно видно), что стало причиной их раздвоенности. Поколение же софроновых–бубенновых пришло уже в сталинскую литературу. Они читали не Пастернака, но лишь бездарные статьи о нем Тарасенкова и были фигурами по–своему цельными: с литературой их уже ничто, в сущности, не связывало. Это были циничные карьеристы, видевшие в литературе только кормушку.