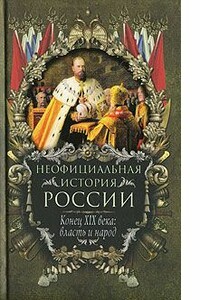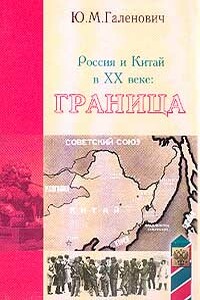С возвращением мужчины в сферу языка становится возможен контроль над фемининностью, выросшей в области визуального до сущего монстра. Фильм Цукора интерпретируется как ответ на катастрофу, запечатленную в нем самом: Эрос и борьба полов представляют собой не исходную антропологическую модель, а целиком зависят от специфических медиальных условий, которые могут как охлаждать, так и разогревать эротические фантазии и представления. Различия этих двух фильмов показывают, что визуальность кино представляет собой горячий медиум, разогревающий эротические фантазии и умножающий объекты эротического желания до бесконечности, в то время как язык действует охлаждающе и контролирует вызванные зримыми образами желания. Как только женщины в фильме Цукора открывают рот, их визуальная привлекательность моментально исчезает и уступает место стереотипам женского поведения[73].
>Иллюстрация 2. Кадр из фильма Джорджа Цукора «Женщины» (1939)
Такое специфическое, бесконечное насыщение пространства фильма женскими фигурами лежит в основе его структуры и вытесняет обычное разворачивание сюжетных ходов. Подобное насыщение свидетельствует о наличии в фильмах Китона и Цукора своеобразных адаптаций сюжета о Дон-Жуане; этот сюжет, возникший с изобретением книгопечатания, повествует об опыте механизации (мужского) взгляда, получающем с изобретением кинематографа второй, куда более действенный толчок. Разумеется, возвращение сюжета Дон-Жуана протекает как у Китона и Цукора, так и у других режиссеров — к примеру, у Ф. Феллини в «Городе женщин» (1979) — на фоне богатого опыта литературной и художественной обработки сюжета[74]. Подобно аналогичным комическим моментам у Мольера и особенно у Моцарта/Дель Понте, герой Китона превращается в гротескную фигуру, капитулирующую перед монструозностью фемининности. У Цукора в условиях звукового кино этот сюжет становится условным, поскольку мужские образы, предстающие перед зрителем в бесконечных женских фантазиях, не менее сатиричны, а мечтания женщин с карнавальным переходом от словесных боев к грубому рукоприкладству высмеиваются и низводятся до гротеска.
3
Сталин как советский супер-Дон-Жуан
Комическим апогеем фильма Бастера Китона «Семь шансов» становятся сцены, в которых необъятные толпы невест сбегаются со всех улиц города и врываются в здание церкви. Именно то, что у Китона является объектом гротеска, достигает у Вертова политико-мифологического величия: из отдаленных советских республик водными и земными путями, маленькими и большими группами, преодолевая проселочные дороги и занесенные снегом перевалы, стекаются в Москву женщины только для того, чтобы встретить одного мужчину — Сталина.
Посредством титров происходящее вводится в политико-общественный контекст, в котором речь идет об освобождении женщины советской властью и Конституцией 1936 года. Однако именно этот политический момент в фильме экстремально персонифицируется и направлен на Сталина как маскулинную, мифологическую фигуру творца, способного осчастливить всю массу советских женщин. В отличие от слабого героя Китона Сталин выдерживает женский напор и утверждает себя как советский супер-Дон-Жуан. Подобно влиянию Дон-Жуана Моцарта в Испании, Франции и Италии вплоть до ориентальной Турции, радиус супермена Сталина столь же мультинационален: он простирает свое влияние за пределы России в восточноазиатские республики. Именно это преодоление национально-культурных границ является неотъемлемой чертой фигуры Дон-Жуана[75]. В то время как испанский секс-турист Дон-Жуан чрезвычайно мобилен и вынужден ради сексуального покорения Европы мириться с трудностями путешествий, харизма Сталина столь могущественна, что он не нуждается ни в каких эротических похождениях. Женщины сами стремятся к нему в Москву из азиатских республик Советского Союза, из Якутии, Туркменистана, Узбекистана, с гор Дагестана и из казахских степей, из деревень и городов, «со всех концов нашей необъятной Родины»[76].

>Иллюстрация 3. «Со всех концов нашей необъятной Родины». Кадр из фильма Дзиги Вертова «Колыбельная» (1937)