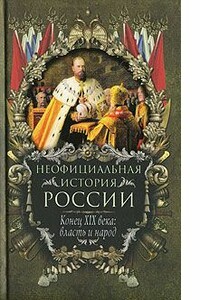Я хожу, не смею волю дать словам.
Милый мой, хороший, догадайся сам.
На излете 1950-х годов, с началом идеологически прокламируемой «оттепели», риторика выражения любовных чувств в литературе и песенной лирике в существенной степени меняется. Томас Лахусен в замечательной работе о читательской рецепции романа Василия Ажаева «Далеко от Москвы» напомнил о труднообъяснимом сегодня ажиотаже вокруг этого произведения[22]. Между тем ажиотаж этот кажется объяснимым именно потому, что расхожее для предшествующей литературы единство приватного и социального в описании любовной тематики в романе Ажаева разводится: теперь выясняется, что любовь — это нечто, что непросто согласуется с нормативами идеологической ответственности. Мы помним, что в предшествующей литературе социальное всегда одерживает верх над приватным: хрестоматийными примерами здесь, конечно, служит роман A. A. Фадеева «Разгром», повесть Бориса Лавренева «Сорок первый», пьеса Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия», главные герои которых подчиняют любовное чувство социальной сознательности. Роман Ажаева такой однозначности противится, и, вопреки ожидаемой развязке во взаимоотношениях главных героев (Алексея, его жены-партизанки и Саши), роман такой развязки не имеет. Судя по приводимым Лахусеном документальным свидетельствам, именно незавершенная любовная история в романе и привлекала читателя в наибольшей степени.
В литературе 1960-х годов репрезентация любовных чувств тяготеет к выявлению, с одной стороны, возможного диссонанса между приватным и социальным, а с другой — к посильному изображению любви как чувства, в большей или меньшей степени независимого по отношению к идеологии и, более того, независимого по отношению к социальной реальности (здесь особенно показателен всплеск читательского интереса к творчеству покойного Александра Грина). Дискурсивные инновации воспринимаются при этом не без травматизма.
Примером на этот счет может служить полемика, развернувшаяся в партийной печати во второй половине 1960-х годов вокруг книжки В. Черткова «О любви (беседы философа с писателем)» (1964), представлявшей собою робкую попытку концептуализировать понятие «любовь при социализме». В 1970-х годах не менее бурную дискуссию вызывает появление статей на ту же тему литературоведа Ю. Рюрикова. Идеологическая установка на то, что любовные чувства требуют социального контроля, остается неизменной фактически до перестройки. Так, в 1982 году автор русского предисловия к изданию правоверно-марксистской книжки болгарского философа Кирилла Василева «Любовь», советский философ Л. В. Воробьев законопослушно спешит упрекнуть болгарского автора в «преувеличении роли сексуальной стороны любви»[23].
Я ограничусь в данном случае одним показательным примером — рассказом из сборника Николая Грибачева: «Любовь моя шальная» (М., 1966). В одноименном рассказе из этого сборника разговор о любви ведут герой-рассказчик и тридцатидвухлетний агроном Обдонский. Обдонский философствует о странностях любви с первого взгляда и настаивает, что в нелепом, по его мнению, обыкновении видеть в симпатии к первому встречному залог дальнейшей совместной жизни особую — и именно негативную роль — играет литература, искусство и, в частности, кино. Формируя представление о красоте, они вместе с тем имеют мало отношения к истинному чувству. Природа любви с первого взгляда остается при этом внешней, неглубокой и, по сути, фантасмагорической, соответствуя переменчивой внешности тех, кто становится ее жертвой: «Итальянский неореализм подрезал у наших девчонок не только юбки и косы, французский кинобытовизм приучил не только ходить в обнимку на людях — в своей крайности он низвел искрометную человеческую и женскую глубину Анны Карениной до новомещанской вертлявости „чувихи“. Соответственно, — резонерствует агроном — изменилось и наше, мужское, зрение…» (с. 79).
Дальше агроном рассказывает свою собственную историю, которая может служить поучительной иллюстрацией к вышесказанному. Рассказчик, как выясняется, однажды уже полюбил «с первого взгляда». Предмет его обожания, Зина, ответила ему взаимностью, но взаимность эта «по-современному» скороспела: в ответ на признание любви герой услышал ответное признание, сопровождаемое, однако, симптоматичным объяснением: «Мы люди своего века, а не тургеневских времен. Зачем делать душераздирающую проблему из того, что просто? Рвать нервы, убивать время?.. Приезжай ты завтра пораньше… прихвати бутылку вина… Что будет потом — увидим потом» (с. 85).