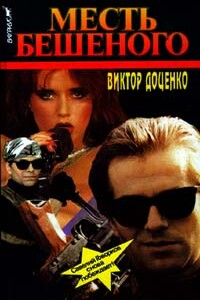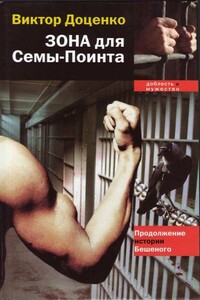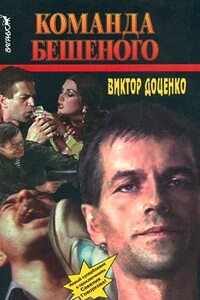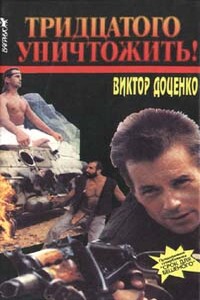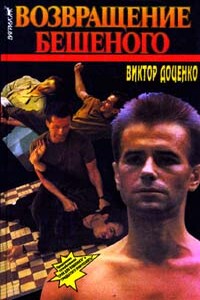— Неужели пронес? — еще не веря в удачу, воскликнул Леший, взял быстро пакет, развернул и понюхал. — Махорка! Живем, братва!
— А спичек нет… — заметил Савелий.
— Ну да? — хитро улыбнулся тот, подавая знак парню с пауком.
Лысый тут же вскочил и загородил спиной глазок в дверях. Леший же отыскал в бугристой бетонной стене еле заметное углубление и вытащил оттуда спичку и кусочек от коробка с серой. Ловко свернув из газеты козью ножку, прикурил и глубоко, с удовольствием затянулся. Сделав три затяжки, протянул Савелию.
— Я не курю…
— Ну-у?! — искренне удивился Леший. — Вдвойне молоток! За трое суток — один чинарик… ухи у всех опухли… Ништяк! — Довольно, до хруста потянувшись, мечтательно произнес: — Ширнуться бы счас… Не увлекался?
— Наркотиками? Нет…
— А я все вены пожег… — Он задрал рукав рубашки. — А чо у тебя глаза такие красные? Не заболел, часом?
— От пресса… по две смены вкалываю…
— От работы кони дохнут! Так и глаза можно потерять, звон как слезятся!
— Ничего, отосплюсь — пройдет, проморгаюсь! — Савелий подложил под голову тапочки и прикрылся рукой от света.
— Ага, покемарь… Лысый, затянись пару раз… — Леший протянул окурок, и тот сразу же подскочил, довольный, что его промашка забыта…
— Слушай, Бешеный, только ты не думай, что если ты чем-то пришелся Королю, то Бога за яйца поймал! Мне вот ты совсем не нравишься, и Лысому, и многим… Так что моли Бога, чтоб Короля с зоны не сняли… Савелий не ответил, он крепко спал.
Зелинский, дожидавшийся на вахте сообщений из ШИЗО, уверенный, что в камере блатных обязательно должно что-нибудь произойти, решил сам сходить и узнать, почему нет сведений. Когда он подошел к комнате дежурного по ШИЗО, старый прапорщик невозмутимо читал журнал «Огонек».
— Ну что, Федор Федорович? В третьей никакого шума? — недовольно поинтересовался он.
— А чего ему будет? — пробурчал прапорщик, откладывая журнал в сторону. Секунду-другую смотрел он на Зелинского, словно решая, стоит ли затевать неловкий разговор, потом решился.
— Товарищ капитан, чем малец-то не угодил вам?
— Он подчеркнуто назвал капитана на «вы».
Чего это ты так официально, а, Федорыч? Мы же одни… Или обиделся на что? — поморщился Зелинский, не сразу поняв причину недовольства старика. Но, не получив ответа, догадался. — Та-а-ак… Видно, задел тебя этот Говорков… — проговорил он ехидно, но не выдержал и вспылил: — Твой малец выше меня на голову! Малец! Гонору в нем много!.. Старших не уважает…
— Вот оно что? — подхватил прапорщик. — Не уважает, значит, старших? А за что? За что, спрашиваю, он должен уважать старших, нас, стало быть?.. За что? Погодь, не перебивай! — оборвал он капитана, попытавшегося что-то возразить. — Это что ж с людьми-то деется? Убей, не пойму: чуть слово — на дыбы! Чуть не по-нашему — в загривок! Ты, Александр, морду-то не вороти: я поболе прожил… Век, считай, доживаю… И ты меня не первый год знаешь… Вспомни, когда ты пришел сюда! Пуганый-перепуганный, хош и майором был… Кто тебе посочувствовал?
— Ты, Федорыч, ты, — смутился Зелинский. — И тебе я очень благодарен за то… но…
— То-то и оно, что «но»! Грешно говорить, но я только на старости лет задумываться начал! — проговорил он тихо, словно по секрету. — Во как! За-думы-вать-ся! — проговорил по складам, как на диктанте. — Может, спросишь, почему только сейчас, кады одной ногой в могиле? А я отвечу! Читать начал… Раньше, кады одна брехня писалась, я с той бумагой в сортир ходил… Ты вон погляди, что творилось-то? Ведь башка пухнет от узнаваний! Там реабилитация, там коррупция, там мильены сворованы, там мафия всякая, а там и еще что почище…
— Чего же ты хочешь? Рыба-то с головы гниет! — с грустью усмехнулся Зелинский.
— Во-во! Удобно сваливать на них: я, мол, человек махонький, убогонький, куды мне… Но нас-то мильены! Мильены!!! Куды ж глядели-то? Малец, видишь, ему не приглянулся… Не уважил его…
— Что ж, целоваться с ним, что ли? Может, и валютой я его заставил заниматься?
— Валютой? — искренне удивился прапорщик. — Он сидит по валюте? Я думал, за разбой аль порешил кого… — Он задумался. — Талы скажи, откуда у него огнестрельное ранение?